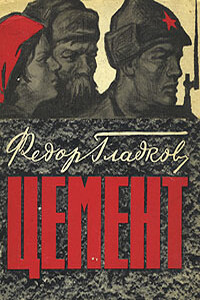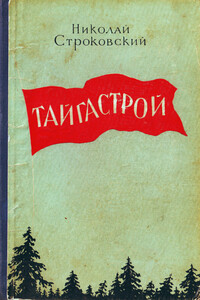Повесть о детстве | страница 168
— Поди-ка домой, сизокрылая! Да парнишку с собой возьмите. Ему здесь негоже быть.
Ванька Юлёнков перебегал с места на место и захлебывался от слез.
— Вот он, Сергей-то… пропал. Загубили мужика. И все мы запутались. Может, уж и мой черед завтра будет. Мужкки, шабры! Чего делать-то, шабры? Красного петуха им всем… И Митрию… и барскому двору…
Серега стоял на коленях, со связанными на спине руками, и уже молчал, уронив голову на грудь.
В это время по длинному порядку, с колокольцами, с шумом, поднимая снежную пыль, пронеслись нарядные сани цугом. На санях сидел в серой шубе с пышным воротником Измайлов. Толпа дрогнула и подалась к воротам.
Кто-то из мужиков крикнул надсадно:
— Вон еще сатана пролетел… И тут Митрий… и там Митрий. Жми, жми да вытри…
— Дождутся! — с угрозой захрипел простуженный голос. — Отольются волку овечьи слезы. В колья их, чертей…
Верно Ванька сказывает: сжечь их дотла.
Какой-то старик из толпы рассудительно заскрипел:
— Чего зря-то болтаете! Рази можно разбоем-то? Развольничались молодые-то…
Ванька Юлёнков закричал:
— Тебе, дедушка Игнат, умирать пора. На покой идешь.
А тут жить надо. А чем жить-то? С голоду выть? Детей морить?
Толпа шумела и волновалась.
Отец и Терентий с Алексеем поволокли Серегу в избу, а он стонал, как больной:
— Огафья! Что они со мной делают? Шабры! Сродники!
И потом, уже на крыльце, он опамятовался и сказал совсем спокойно и буднично:
— Это чего же, шабры? Что я наделал-то? Аль вправду?
Неужели Огафья-то?..
Юлёнков, задыхаясь от волнения, уговаривал его:
— Вот то-то и есть, дядя Сергей. Рази так бабу бьют?
Ведь у тебя ручищи-то по пуду. А ей чего надо? В ней и душа-то не держалась…
Серега послушно пошел в избу. Бабы вопили разноголосо. А Катя подхватила маму под руку и повела со двора домой. Я побежал вслед за ними, как одурманенный. Меня поразило никогда не виданное мною лицо матери, похожее на слепое, таинственное лицо Лукони.
После этого события я долго не мог прийти в себя: на улицу не выходил, а сидел на печи и молчал. Мама лежала без памяти целые сутки, а когда встала, по-прежнему засуетилась по дому: ходила к колодцу за водой, скребла и мыла пол, стирала одежду и била ее вальком на реке, у проруби.
Лицо ее было по-прежнему ясное, свежее, как у девочки. Так же расторопно угождала она бабушке, играючи собирала на стол и убирала со стола, сеяла муку в ночевки, гоняла корову на водопой и доила ее в хлеву. Когда хоронили Агафью, она провожала ее вместе с Катей и бабушкой и пришла с, кладбища спокойная, без печали на лице. И мне было больно и обидно, что в эти дни она как будто забыла обо мне: ни разу меня не позвала и не приласкала. Я пробовал подойти к ней, но она как будто не видела меня. Бабушка поглядывала на нее с беспокойством и о чем-то шепталась с Катей.