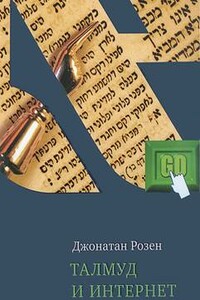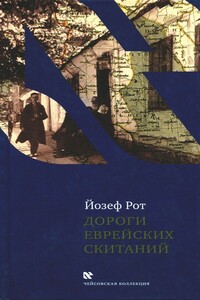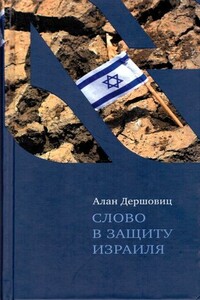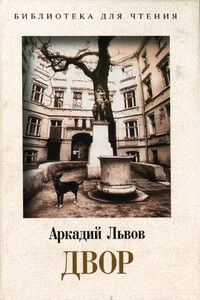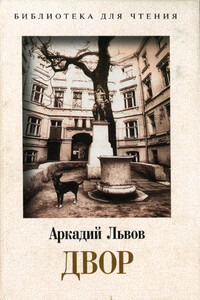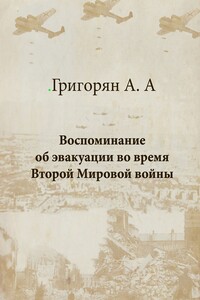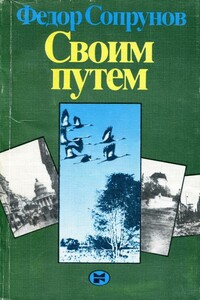Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 77
А вот что действительно внове, это конвейер, снаряженный большевиками специально для бардов, это перевод единичного акта убийства на поток. Разве Ося один был? Нет, не был Ося один — было в те годы еще шестьсот, кроме него, на конвейере. А кроме них, бардов, числом шестьсот, были еще тысячи и миллионы: не барды, не златоусты, а так, разные — винтики, как сортовал Хозяин.
По приговору о трехлетней ссылке Осе приписали «минус двенадцать». Теперь, когда ссылку он отбыл, приписали «минус семьдесят», то есть навсегда, до конца жизни, в семидесяти, означенных припиской, городах запрещалось ему проживание. Но что были они, эти семьдесят, если только в одном — в Москве — Ося чуял себя человеком. И куда ни завозили его в эти оставшиеся ему месяцы колеса, ноги приводили его обратно в Москву.
Каждому встречному-поперечному Ося выкладывал свое главное: «Я у них все время на глазах. Они совершенно не знают, что со мной делать. Значит, они меня скоро посадят…»
После драки, сказано, кулаками не машут. Но, с другой стороны, покажите мне хоть одного человека, который так, про себя, не помахал бы кулаками после драки.
Так вот, у меня лично есть полная уверенность — ну, не все сто, но почти все сто процентов, — что Ося, не болтайся он «все время на глазах», в Москве, а поселись где-нибудь в Хацапетовке, мог бы уберечься. Один большой чин выболтал тогда: Ося — не политический, а уголовный, «был пойман в Москве, наскандалил там, а не имел права там находиться».
«Журналисты из „Правды“… рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела… Разговор этот, — вспоминает Надежда Мандельштам, — произошел в конце декабря или в начале января 1939-40 года, вскоре после снятия Ежова…»
В ЗАГСе — поразительный для тех лет случай — Александру Эмильевичу Мандельштаму выдали свидетельство о смерти его брата, Осипа Эмильевича, произошедшей по причине паралича сердца.
В том же году, в тридцать восьмом, всеми забытый и брошенный, умер от рака и Осин папа, старик Эмиль Хацнель. Перед смертью он все ждал, что Ося навестит его и они смогут поговорить, как писатель с писателем, о мемуарах, которые старик писал по-немецки: русский язык он освоил настолько, чтобы предъявлять как пропуск имя своего первенца — «мой сын — известный поэт Осип Мандельштам», но не настолько, чтобы рассказать на нем историю своей жизни.
Незадолго до ареста Ося виделся со своим папой, старик хотел перебраться к нему от черствого сына, Евгения Эмильевича, которому был тяжкой обузой. Ося очень переменился к отцу, называл его теперь папочкой и терпеливо объяснял, что переселиться к бездомному, к беспризорнику нельзя.