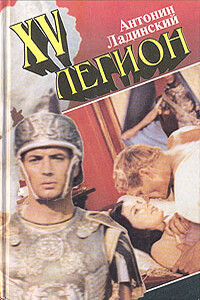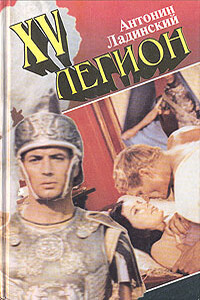Канун | страница 39
Время же осеннее, скоро и белые мухи. А затем и морозы.
Но не только холод пугал.
К нему, к морозу-то, может быть, можно и привыкнуть. Ведь ходили же юродивые, блаженные, круглый год босиком. Хотя, говорят, с обманом они: салом ноги смазывали, спиртом.
Но все-таки привыкнуть, может быть, и можно.
Главное же: один в целом городе, в столице северной (именно северной), — один, в рубашке одной!
Центр внимания! Все смотрят.
Невозможно!
Лучше голому. Голый так уж голый и есть — что с него возьмешь?
Спортсмен или проповедник культуры тела — бывают такие оригиналы, маньяки разные!
В прошлом году мальчишка один, юноша, часто Калязину на улицах попадался. В трусиках одних. Мальчишка, двадцати нет, а здоровый, мускулистый, бронзовый, что африканец какой, индеец.
Такого даже приятно видеть. Герой, природу побеждает, с холодом борется, с непогодою. Глядя на него, завидно даже.
А вот в рубашке если, дрожит если, семенит, а коленки этак подогнулись от холода, нос синий, а рубаха прилипла к спине, примерзла, — это уж другое.
Это всем — бельмо.
И недоверчивые, нехорошие при виде такого «франта» у людей возникают мысли: «Пьяница, жулик. Такой ограбит за милую душу, убьет. Встреться-ка с ним глаз на глаз в переулке глухом — что липку обдерет. Что ему, отпетому такому, бродяге-оборванцу, забубенной головушке, что ему? Ограбить, обобрать — профессия его, поди. Промышляет этим…»
Казалось, так думали эти, встречные, вслед недружелюбно, с опаскою поглядывающие…
Сначала чувства отчаяния, угнетения, потом — недовольство, злоба против людей.
Против всех, что на улицах в теплой, в настоящей по сезону одежде.
Злоба на бесчувственность людскую, на то, что человек человеку (как у писателя одного сказано) — бревно.
Да как и не быть злобе?
Разве можно, чтобы в республике свободной, в братской, так сказать, стране, где все за одного и один за всех, коллектив где, — чтобы в столице, в городе первом первой по свободе страны, не в угле каком медвежьем, где люди с волками глаз на глаз, а в самом Петербурге, и вдруг — на-те! — человек без одежды — рубаха какая же одежда? — человек в рубахе, поздней осенью и не по своей вине, а ограбленный, раздетый бесчеловечно. И рубаха-то пускай бы черная, с воротом глухим, а то с шеей открытой, кремовая, в брюки забранная, с галстучком пестреньким, и пояс резиновый с кармашком для часов.
Ведь так на даче только гуляют, купаться так ходят, а не в городе, когда снег того и гляди…
Так думал Калязин, по улицам в поисках заработка бегая, под взорами встречных, недоверчивыми и нехорошими, пробегая, злобно кляня бесчувственность, деревянность бревенчатую людскую, и часто становилось невыносимо, казалось, миг еще, и не совладает со злобою — кинется на первого встречного, за пальто уцепится, за воротник; как кладь какую из мешка, человека из пальто вытряхнет, как его тогда грабители грубо раздевали, вытряхивали из новенького демисезонного его пальто…