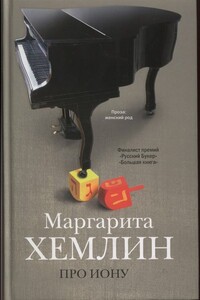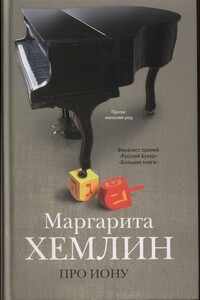Искальщик | страница 63
Ты ж видишь, я здоровый, красивый. Нога, правда, побаливает. Сильно я ногу повредил… Как раз той самой ночью, когда тебя убивали. Но я ж ее не ковырял. Потому что хотел жить как человек. А ты пошел по легкому пути. И сбился.
Видно, я внутри себя перескочил через какую-то неизвестную Марику мысль, которая мне была понятная и ясная.
Он окончательно растерялся и запутался. Стал совсем маленьким и придурковатым. Но придурковатость эта была не когдатошняя, веселая, а темная, непонятная. Без дна.
– Ладно, Марик… Спать надо. Иди!
Марик послушно поплелся до кровати. Я не смотрел ему в спину, потому что нет толку смотреть в спину привидению прошлого. В него можно верить, да. А смотреть не надо. Одно расстройство.
Сколько мне еще в Шкловской хате хозяйновать – неизвестно. Посулы Розки насчет пропитания некрепкие. Даже сильно хлипкие.
Весь вечер решил отдать собиранию барахла на продажу.
Вязал узлы из простыней, напихивал туда все, что могло быть обменяно на продукты, а также продано за гроши.
Паковал я, паковал и вдруг остановился. Марик варнякал про тяжеленький портфель – единственное, что нес Шкловский прошлой жизни.
Марик при всей своей непомерной дурости все бурные годы помнил про этот портфель. И сейчас его помянул. Мало ли тяжелого кто когда таскал за собой… Забывается ж. И ведь не добавил, что, мол, тот портфель, с которым потом он в школу бегал и на жопе с горы ездил. А особо сказал – тяжелый портфель. Вроде в школу – уже с другим портфелем заявился. И слово особое. У нас – редкое. У нас – сидор, узел, мешок. Ну, чемодан в крайнем случае – совсем городское, неудобное, для красоты переноса.
Я по себе знаю: слово, если оно отдельно от жизни, всегда в первую очередь забывается. Вот если оно завязано с жизнью, да еще с крепкой важностью, с настроением – тогда впечатается в голову намертво.
Потянешь вроде случайно за такое словечко – и годы назад покатятся и в ту самую минуту воткнутся, когда это слово в первый раз промелькнуло. И откроется как живая картина. Вспомнишь даже, как какой-нибудь зелененький или желтенький листочек на кусточке шевелился от букв.
Марик храпел и булькал горлом.
Я встал над ним и гаркнул:
– Портфель, Марик, тяжелый, тяжелый гад, Шкловский тащит! А что там? Марик, что там?
Марик через сон пробурчал неразборчивое.
Мне послышалось:
– Клад.
– Ну, еще скажи! Еще скажи!
Я затряс Марика, тряс его всего – и ноги, и живот, и плечи, и голову.
Марик очнулся, закричал:
– Ой, больно! Папа, я не видел ничего, ничего не видел! Не открывал, оно ж не открывается! Я честно каменюкой хотел сбить, а оно ж не открывается! Ой, больно ж мне!