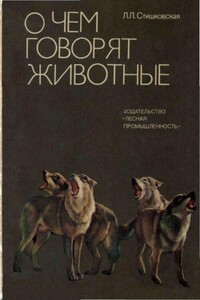Знание-сила, 2006 № 02 (944) | страница 66
А.Д. Сахаров и И.В. Курчатов
Изоляция от мировой науки хоть и заставляла учиться делать собственное оборудование, но мешала здоровой проверке научных результатов мировым научным сообществом.
Сомнительно, чтобы Сталин понимал, какую роль в достижениях советской физики сыграли досталинские двадцатые годы. Тогда страна худо-бедно держалась завещанного Лениным курса на поддержку науки и мирное сосуществование с частной собственностью, что способствовало контактам советских физиков с мировой наукой. Именно тогда, в частности, закладывался фундамент советской науки и научной популяризации (журнал "Знание — сила", напомним, родился в 1926 году). В той атмосфере сформировались Ландау, Капица, Тамм, Фок, Френкель, Харитон с их диковинным сочетанием советского патриотизма и чувства принадлежности к мировой науке. Они общались и дружили с западными физиками, встречаясь с ними по обе стороны советской границы. Даже когда по воле Сталина контакты прервались, эти физики оставались живой частью мирового сообщества физиков и незримо соединяли своих учеников и сотрудников с этим сообществом. По крайней мере за двадцать лет эта связь не распалась.
Нет оснований думать, что Хрущев, разрешивший восстанавливать эту связь, понимал науку глубже Сталина. Но он не так крепко держался за вертикаль власти и в том, что касается науки, готов был доверить часть власти самим научным лидерам, прежде всего Курчатову. Это было совсем не мало. С научным кругозором и государственным мышлением, как у Курчатова, можно было значительно оздоровить физику. И не только физику — под крылом ядерной физики нашли укрытие гонимые биологи. Увы, ранняя смерть (в 57 лет, после непомерного груза сталинских дет) сорвала эту возможность.
Курчатов, однако, успел оказать поддержку Сахарову в самом начале его общественной деятельности, и можно думать, он разделил бы сахаровское понимание науки, которое тот наложил в (устной) лекции 1989 года, озаглавленной так же, как и давняя статья Дайсона, — "Наука и свобода". Сахаров видел три основные цели науки.
Во-первых, "наука как самоцель, отражение великого стремления человеческого разума к познанию. Эго одна из тех областей человеческой деятельности, которая оправдывает само существование человека на Земле.
Вторая цель науки — это ее практическое значение. Мы знаем, что именно в XX веке материальное производство стало основываться на науке гораздо в большей степени, чем когда бы то ни было. И в том, что мы производим, в нашем совокупном продукте значительную, может быть, большую часть составляют результаты науки. Это мы подразумеваем, когда говорим, что наука стала материальной производительной силой.