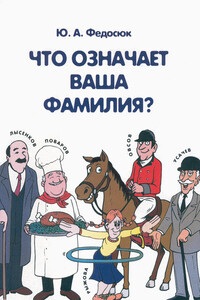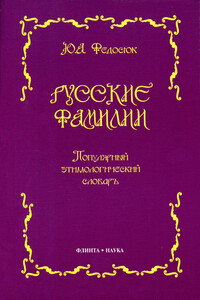Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов | страница 59
К концу войны повсюду – на фронте и в тылу – разнеслись слухи, что Победа будет ознаменована всеобщим благовестом московских (а может быть, и других городов) церквей. Этому радовались, мечтали послушать хотя бы по радио – такова была любовь к церковному звону. Меня спрашивали об этом солдаты, я не знал, что ответить: хотелось верить и вместе с тем не верилось. Как известно, слухи оказались ложными.
Но то было уже другое время: некоторые священники стали получать от правительства медали. А в 1928–1929 годы против религии были приняты самые крутые меры. Служители культа рассматривались как открытые классовые враги. На них натравливалась молодежь, священник, выходивший на улицу, подвергался насмешкам и издевательствам, иногда вслед ему сыпался град камней. Распевалась частушка: «Долой, долой монахов, раввинов и попов, залезем мы на небо, разгоним всех богов». В ходу была и такая нелепая песенка: «Сергей поп, Сергей поп, Сергей валяный сапог».
Особые протесты вызывал звон колоколов не закрытых еще церквей. Нас, второклассников, заставили подписывать петицию о закрытии близлежащей церкви: колокольный звон-де мешает нам заниматься. Был расклеен плакат: «Колокольный звон – для старух и ворон». Насчет ворон – чепуха; вороны колокольного звона как огня боялись.
В 1929 году римский папа Пий X, выступая против преследования религии в России, призвал к крестовому походу против СССР. Это подлило масла в огонь: на плакатах и карикатурах толстый папа изображался благословляющим пушки и снаряды, направленные против нашей страны. Теперь уже ходить в церковь значило поощрять планируемую интервенцию.
Многие священники высылались, другие спешили расстричься и заняться какой-либо мирской профессией. Ходить в церковь стало опасно. Слышал разговоры: женщина заметила сослуживицу, выходившую из церкви, донесла, и богомолку прогнали с работы. Рекламные полосы газет заполнились объявлениями: «Я, служитель культа такой-то, понял, что обманывал народ, и снимаю с себя сан». Но чаще можно было прочитать такое: «Я, сын служителя культа такого-то, отрекаюсь от отца и не желаю с ним иметь что-либо общее». Подобное отречение становилось индульгенцией: отрекшийся мог поступить в вуз» его могли принять на более или менее ответственную работу; принадлежность же к духовному сословию исключала и то и другое. Поговаривали, что многие отречения были предварительно согласованы с родителями, не желавшими закрывать своим детям дорогу в жизнь, семейные же связи в глубокой тайне поддерживались,