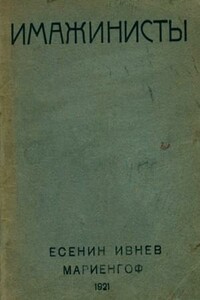Серебряный век: невыдуманные истории | страница 46
Этому способствовало тревожное время страшных неудач на фронте. Вот когда надо было быть личным свидетелем событий того времени, чтобы понять, какое настроение господствовало в столице на берегах Невы. В газете «Речь» был напечатан фельетон Мережковского под заглавием «Петербургу быть пусту», где он воспроизводил легенду, относящуюся ко времени постройки Петром города, когда некий юродивый бродил и «пророчествовал»: «Петербургу быть пусту… Петербургу быть пусту…» Империя висела на волоске. Это чувствовалось во всем. Одних это радовало, других – приводило в отчаяние.
Если в «Бродячей собаке» думали о стихах, то в «Привале комедиантов» стали задумываться о стихии.
И публика в нем была уже не та. По инерции продолжали бывать поэты, художники, композиторы, но тон задавали дельцы и спекулянты.
В «Бродячей собаке» посторонних в среде людей искусства, допускавшихся в зал за плату (пять рублей золотом), называли «фармацевтами». Слово прижилось. Если «фармацевты» в «Бродячей собаке» были гостями, то в «Привале комедиантов» они вели себя как хозяева. И золотой «Привал» с его роскошными залами и огромными зеркалами терял постоянную публику и пустовал все чаще.
Уехавший за границу Георгий Иванов опубликовал в Париже мемуары «Петербургские зимы», в которых обрушился на своего бывшего кумира Кузмина за то, что он, по мнению Иванова, усыплял бдительность интеллигенции песенкой:
Кузмин, как известно, остался в советской России и продолжал литературную деятельность.
В марте 1918 года я переехал в Москву, и следующие встречи с Кузминым произошли через двенадцать лет, когда я вновь стал жителем Ленинграда. В ту пору Кузмин жил на Бассейной, недалеко от Литейного проспекта, вместе с Юркуном и его матерью они занимали две комнаты в обычной коммунальной квартире. За годы, что я не видел Кузмина, он мало изменился. Только остатки волос, зачесанных кверху, стали серебриться еще нагляднее. Он остался верен себе: ничего не рассказывал о своей жизни и неохотно слушал, когда ему рассказывали об интересном, но его не касавшемся.
Я не обиделся на Кузмина, оставшегося равнодушным к моим рассказам о пережитом, которые другие просили повторять по нескольку раз. Они не задевали его. Создавалось впечатление, что он стоял над всем и всеми. Быть может, потому, что прошлая его жизнь была переполнена еще более острыми приключениями.