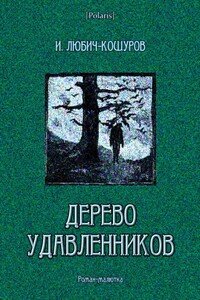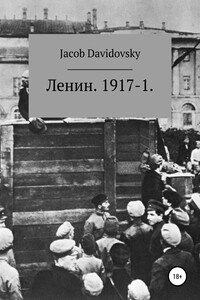Чернокнижник Молчанов | страница 43
Потом Молчанов, когда его царику пришлось бежать в Калугу, где, по слухам, он и сейчас находился, передался на сторону Владислава королевича, избранного московским царем и «пристал на двор» к боярину Салтыкову, много постаравшемуся для королевича.
Он слыхал, что Молчанов теперь через Салтыкова в большом почете по Москве.
Айзека полагал, что Молчанов, когда Владислав королевич приедет в Москву, будет и с ним делать что-нибудь такое, что делал с прежним цариком: водить его по ночам на кладбище, или Владислав королевич выстроить вышку и там его посадит, чтобы Молчанов глядел по звездам, что королевичу написано на роду.
Для него было совсем непонятно, почему Молчанов приехал к нему на плохой лошаденке, в простых санях и в мужицком зипуне. Не будь с Молчановым этой польки в шелке и бархате, было бы всего верней предположить, что-либо молчановский благодетель, боярин Салтыков, стал в немилости, либо сам Молчанов как-нибудь и чем-нибудь перед Салтыковым «проворился».
Но Молчанов, по-видимому, если «проворился», то не перед Салтыковым, а сманил, должно быть, эту польскую панну от кого-нибудь из сидевших в Москве поляков.
Еще вчера мимо Азейкинова двора протащился рыдван с польской стороны с четырьмя польскими паннами…
Уж не одна ли из этих панн и сбежала с Молчановым?
Бабы на Молчанова всегда заглядывались, хотя и знали, что он богоотступник и чернокнижник. А может потому именно у него так всегда и выходило гладко с бабами, что он знал — что знал… Баба — не клад, а и клад не от всякого колдуна убережешь.
В этом своем мнении относительно того, что Молчанов скорее всего «проворился» насчет приехавшей с ним польки, Айзека убедился еще более, когда Молчанов выспросил у него все, что касалось его дочери, вперил в него жуткий свой взгляд и сказал:
— А ты первое — спрячь меня сегодня где-нибудь покрепче, а второе — достань на завтра шубу да возок, да не хоронится-ль где тут поблизости каких надежных людей мне в провожатые?
Он говорил это и гладил свои длинные, висевшие книзу усы то — один, то — другой и смотрел на Азейку с выражением очень для того понятным: не выдаст ли он его? Такие уж у него были глаза: покамест он говорил, и глаза говорили тоже.
Будто две струны звенели: одна — слова, которые он говорил, а другая-то, что переливалось, искрилось и горело в его глазах, эти его еще несказанные слова, не облекшиеся в слова думы.
Он велел Азейке сесть вместе с собой за стол и налил ему меду.