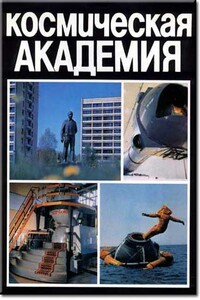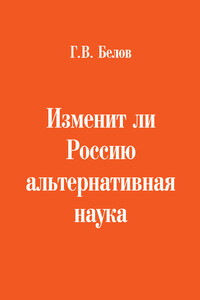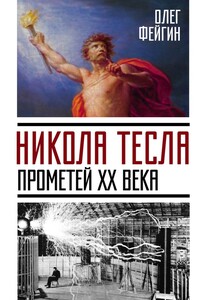Добрый генерал Солнце | страница 27
— Новенький?—спросил вошедший сержант.
— Новенький,— ответил конвоир. — Вот талон на одежду.
— Ладно. Вы приводите их мне ворохами.
— Ничего подобного еще никогда не бывало, сержант,. Чем больше их арестовываем, тем больше их плодится.
Сержант пожал плечами. Илларион украдкой следил за всеми. Ему выдали штаны из грубого холста и куртку в синюю и белую полосу.
Илларион смотрел на полученную одежду, в голове его бессвязно, вразброд зашевелились мысли, словно опустившаяся на поле стая ворон: она как будто едина и вместе с тем раздроблена! раздается тысячеголосое карканье, хлопают крылья, в широко раскрытых клювах мелькают красные языки.
50
В окно было видно, как багровый глаз солнца закатывается за серо-зеленую полосу моря. Глаз этот менял свой цвет, и все, на что он обращал свой взгляд, меняло окраску. Даже помещение тюремной кладовой окутали лиловатые тона.
*
* *
Теперь тебя всегда будут видеть только сквозь тюремную решетку; тюрьма станет твоей оболочкой, которую невозможно сбросить. В черепаху с панцирем — вот во что она тебя превратит! Даже песня не может иметь то же звучание в устах заключенного, как у свободных людей. Взгляд самого рассеянного человека, и то опасливо шарит по заключенному, буквально его пронизывает. Вспомни, Илларион, как ты сам смотрел в глаза арестантов, которых ты видел. У заключенного нет больше походки, нет красок, нет улыбки. Заключенный — это прежде всего лицо и особенно пара глаз, в которые чужие люди заглядывают, пытаясь увидеть его нутро. Может быть, замечают еще и руки, но только чуть-чуть. Пухлые либо худые руки, удлиненные либо короткопалые, широкие, вальком, либо узкие, неуклюжие либо ловкие.
Ему вдруг пришла на память трагическая ночь, когда в густой тьме собственная рука показалась ему мохнатым пауком-крабом... Метр Месмен не подал ему руки.
Он стал искать свои руки. Какие у него руки? Их закрывал сверток — куртка и штаны, которые ему выдали. Он вдруг заплакал, как ребенок.
*
* *
Почему его привезли в Форт-Диманш? Пьер Румель был тоже в Форт-Диманш.
Конечно, Илларион знал Пьера Румеля. Еще когда жил мальчиком в Буа-Верна. Одним из тех мальчиков, которых родители, чтобы не бросить их совсем, вынуждены помещать прислугой в богатые дома. Там их держат впроголодь, бьют, они спят где попало, они лишены матери, не видят ласки. Мама поместила его к Сигорам, почтенным людям, видным горожанам, феодалам Буа-Верна...
И они работают, эти дети, и получают оплеухи, и плачут, и учатся больше не плакать... В восемь лет Илларион отводил в школу маленьких Сигоров, а им было по двенадцать! Да, он разучился играть, разучился быть самим собой; притеснения заставили его похоронить глубоко свою юность. Но каждую ночь она к нему возвращалась. Боже, что только ему ни снилось! А сколько он знал маленьких мучеников вроде него самого. Когда он с ними встречался, не нужно было ничего объяснять, они тотчас понимали все, что он испытывает. И братская рука пожимала руку того, кто нуждался в поддержке, ему вкладывали в руку шарик для игры, полевой цветок или птичку... Он ходил в лохмотьях под дождем, без шляпы под тропическим солнцем... Зу-лему тоже поместили к почтенным людям, но она вернулась домой беременная; отцом ребенка был господин Жерар. Господин Жерар однажды вечером силой овладел ею, .а потом это повторялось. Когда матушка господина Жерара узнала, что ее сын... О, она страшно рассердилась! Ведь она так часто исповедовалась, она принимала в своем доме духовных особ: его преосвященство епископа Ле Гуаза, и отца Ришара, и прочих и прочих... Она прогнала Зулему, эту четырнадцатилетнюю распутницу. Что до Иллариона, он сам не остался у Сигоров — удрал от них.