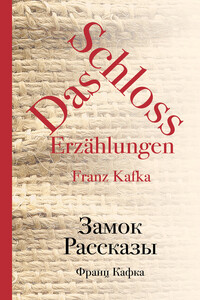Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви | страница 41
— Должен сказать, вы выглядели благороднее, одухотвореннее.
— Одухотвореннее? — воскликнула она. — В смысле усталая или больная?
— Нет, вы были довольно свежи. Но вы ведь уникальны. Нельзя но вам судить.
— Нельзя по мне судить этих двоих? Ну конечно, я ведь просто женщина. Я слыхала об утративших юность женщинах, которые чахли от того, что ни один мужчина их не любил. Я слыхала о многих девушках, которые переживали от того, что их не любил какой-то особенный юноша. Но они от этого никогда не чахли. Конечно, юноша не будет чахнуть из-за какой-то особенной девушки. Он скоро влюбится в другую. Чем он страстнее, тем скорее сменяется интерес. Все мои бывшие страстные поклонники теперь женаты. Поставьте, пожалуйста, мою чашку.
— Бывшие? — повторил герцог, поставив ее чашку на пол. — Были такие, что любили вас и перестали?
— Нет, конечно, не перестали. Я, понятно, остаюсь их идеалом и все такое. Они лелеют мысль об мне. Они мною поверяют мир. Но я для них источник вдохновения, а не наваждение; свет, а не гибельный луч.
— Вы не верите в любовь, которая разрушает, любовь, которая губит?
— Нет, — рассмеялась Зулейка.
— Вы не листали никогда греческих пастушеских поэтов, не читали елизаветинские сонеты?
— Нет, никогда. Я для вас, наверное, очень груба: мой жизненный опыт основан только на самой жизни.
— Вы часто говорите так, будто весьма начитаны. В вашей речи есть то, что называют «литературным оттенком».
— Ах, я эту дурную привычку подцепила у одного писателя, мистера Бирбома, он как-то рядом со мной сидел за обедом. Никак от нее не могу избавиться. Уверяю вас, — я почти никогда не раскрываю книгу. Жизненный опыт, впрочем, у меня большой. Короткий? Но, думаю, душа человека в последние два-три года мало отличалась от того, какой она была при королеве Елизавете кто там царствовал над греческими пастухами. И должна сказать, современные поэты, как и раньше, нелепо все приукрашивают. Но простите, — спросила она осторожно, — вы, случайно, сами не поэт?
— Только со вчерашнего дня, — ответил герцог (не отдавая должного ни себе, ни Роджеру Ньюдигейту и Томасу Гейсфорду). В нем сейчас ожил в особенности поэт-драматург. Все это время, сидя рядом с ней, так живо говорившей, так прямо смотревшей в глаза, так мило жестикулировавшей, он чувствовал трагическую иронию; чувство это, несмотря на попытки его подавить, не оставляло его с той минуты, как они покинули Иуду. Ему было ясно, что она умышленно производит впечатление на юношей, которые на палубе собрались уже толпой. Она будто видела его одного. Со стороны можно было подумать, что она в него влюблена. Он завидовал тем, в ком она столь сознательно возбуждала зависть, — тем, к кому она, с ним разговаривая, в действительности обращалась. Но он утешался иронией ситуации. Она его использовала как подставное лицо, он же с ней играл, как кот с мышкой. Вот она щебечет, без малейшего подозрения о том, чем он отличен от других влюбленных, просит его о знакомстве со вполне заурядными молодыми людьми, он же готов ее поразить тем, что сейчас от любви к ней погибнет.