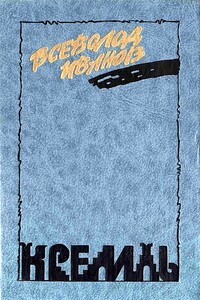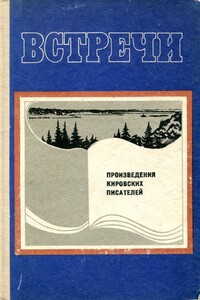Проспект Ильича | страница 61
Но затем подул ветер и, словно исполняя чье-то поручение, снял всю тишину. Проспект наполнился гремящими, стонущими, звякающими и ревущими звуками. Ветер будто объединил их и понес возбужденной и стремительной массой.
Пришлось закрыть окна.
Владислав Силигура вернулся к столу. Гудящий и жужжащий город остался за двойными стеклами, — вплоть до воздушной тревоги. Но немедленно же в сердце зашумел огромный город его чувств. Он вспомнил семью, троих детей, бабушек, двух дядей… Все это теперь пробиваясь сквозь жару и ветер, едет к далекому Узбекистану, в глубь нашей страны. У каждого свои заботы, тревоги — и все они, вместе, помещаются вот здесь, в сердце Силигуры, библиотекаря. Он рассматривал каждого из них в отдельности, и каждый из них встречал у него хороший прием…
Глядя на закапанную голубую чернильницу с широким, как блюдечко, дном, он думал: отправить им вдогонку все семь томов, которые он написал о жизни СХМ, или не отправлять? И он опять повторил то же самое, что сотни раз в последние дни повторял самому себе: «Значит, те сто тысяч томов, которые стоят вокруг тебя и которые эвакуируют в последнюю очередь, ты считаешь менее ценными, чем твои семь?» И он ответил самому себе тем же, чем отвечал раньше: «Недостойно! Родные увидят трудности там, где их нет. Пусть тома лежат вместе с остальными ста тысячами».
Он развернул восьмой, — самый яркий том истории, — и стал из него переписывать в письмо, которое отправлял вдогонку своим родным. Но, переписав несколько строк, он решил их зачеркнуть с тем, чтобы ими закончить письмо; вначале же решил изложить свои личные переживания, с которыми, кстати сказать, редко соглашалась его жена.
«…Это ваше мнение, а не мое…» — писал он, предвидя все ее возражения. Из уважения к его знаниям, из любви к его высоким чувствам, жена часто преувеличивала его достоинства, и теперь, когда смерть могла посетить его каждую минуту, он признавал особенно вредными эти преувеличения.
Смерть? Он держал перо в руке на весу, переводя взор с чернильницы на лампу, завешенную плотной бумагой. Глаза у него маленькие, пожалуй, их можно было б назвать крохами глаз. И тем не менее, он совершенно отчетливо видел смерть — эту «иностранку» с ее историей, которая всем отвратительна и омерзительна. Она буравит и сверлит сознание, спиралью страха скручивает сердце, — и как же велик тот человек, который может победить ее и презреть во имя родины и счастья человечества? Он глядел на нее тусклыми и крохотными глазками и шептал: «Презираю!»