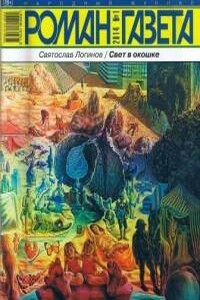Смотрю, слушаю... | страница 20
— А вы откуда сами?
— Я-та? Я-та с Мордовии, с Волги. По сравнению с нашим тут, скажу тебе, рай. (У меня так и взмыло: «Ага! Уже Труболет наш кажется раем! Только подождите: всюду будет рай! И на Волге! И в Сибири! И на Севере! Земля нигде гулять не будет!») Так как ты скажешь, милашка-любашка: можно-та домом обзаводиться здесь али как?
— А душа лежит строиться?
— Душа-та, она душа. Как душе не лежать? Край-та чуднай. Ох, чуднай. Я слышал по радио, смотрел по телевизору — заманчиво, а приехал — душа так и обнимат. Да как бы не ушибиться. С хуторами-то вон что. Линия-та, она осталась. А у нас мысль такая: как бы попрочнее сесть! Нам край надо обговорить это, любашка!
— Обговорим.
— А ты куда сейчас? Поди, в центр?
— В центр, — отвечал я. Хотя не знал, что такое центр на возрождающемся моем Труболете, где он.
— Ходи, любашка, ходи. И я там буду. Мне вот только кирпичи сносить. Я сейчас обернусь. И Князева Гришку-т прихвачу. Он очень обстоятельнай, Гришка. Ох, обстоятельнай. И у нас большой разговор. Очень большой разговор у нас должен быть. А то как же на бегу? Дело-т не шуточное. Дело-т сурьезное. Надо обмерить со всех сторон. Идет, любашка?
В душе я готов был колотить его за эти его «милашки» и «любашки». Но я его уже и любил. За мятущуюся простосердечность. За стесняющуюся чистоту. За оглядное стремление к основательности.
— Идет. Приходите.
Где когда-то был княжеский дом и экономия (хозяйственные постройки помещика), а потом — школа, клуб, изба-читальня (все — в том же серганевском доме) и колхозный двор с амбарами, складами, конюшней, в окружении сада и где еще недавно, года два-три назад, я обнаружил пустырь, теперь алели кирпичные корпуса, ангары, другие помещения, соединенные не закрытыми еще траншеями. Дымящуюся кучу гудрона посреди обширной, наполовину заасфальтированной свежим асфальтом площади, от которой отъезжал грохающий железным бортом самосвал, раскатывала дымившимся тракторным катком расторопная, похожая на черноглазую птичку-синичку, кнопочка в ярком, расшитом, как у фигуристов, комбинезоне. Туда-сюда летали автокары, грузовики, тракторы с прицепными тележками; кругом ревело, визжало, гремело, звенело, кричало строительское разноголосье, и все, что было вокруг, сотрясал огромный, взлетающий чуть ли не до солнца и вбивающий чуть ли не километровые сваи, распалившийся пневматический молот: «В пух! В прах! Все! Все! В пух! В прах!» Видно, это и был центр, эта площадь. На меня никто не обращал внимания. Я зашел в помещение, из которого во все стороны выворачивались и раскатывались клубы пыли и неслись сдавленные женские голоса, и еще не успел ничего разглядеть в клубящейся, мигающей и грохочущей тьме, как меня кто-то обнял и поцеловал в щеку: