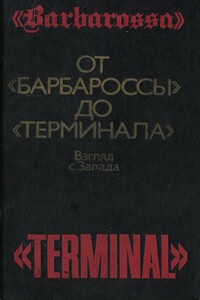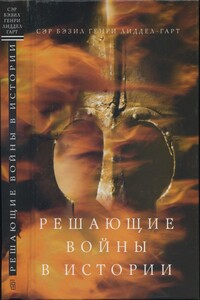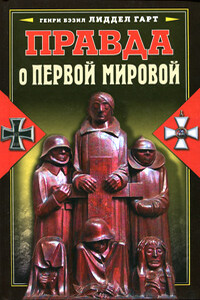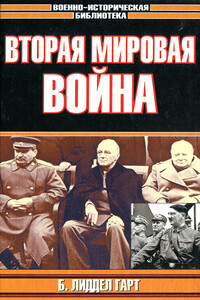История Первой мировой войны | страница 13
В противовес прежней антиисторической пропаганде, которая рисует кайзера жаждавшим войны или даже подготовлявшим ее, маятник истории ныне слишком сильно качнулся в другую сторону. Признание ошибочными благих намерений кайзера не должно вести нас к недооценке дурных последствий этих намерений. Последствия эти главным образом вытекали из того, что кайзер слишком любовался и результатами своих действий и самим собой. Он видел себя одетым «в блестящие латы», хотя на деле оказался в рубище. Он доказал только то, что, сея раздор, можно породить лишь войну.
Оттягивая согласие на предложение Британии, кайзер и Бюлов чувствовали себя в безопасности. Они недооценили влияние обоюдной неловкости от слишком поспешной случайной близости. С чрезмерной уверенностью они говорили, что не может быть действительного союза «между китом и медведем», хотя стремились к этому союзу всем своим поведением.
Бросая взгляд в прошлое, надо признать наиболее замечательной чертой этого прошлого то количество пинков, которое потребовалось, чтобы отогнать Британию от Германии и бросить ее в неловкие объятия двойственного союза. Нельзя сказать, что для Германии это явилось неожиданностью. Она была ясно предупреждена, так как Чемберлен говорил ей в 1898 году и затем вновь в 1901 году, что
«период блестящей изоляции Англии миновал… мы предпочли бы примкнуть к Германии и Тройственному союзу. Если же это окажется невозможным, мы будем иметь в виду сближение с Францией и Россией».
Убеждение Германии в неприемлемости для нее союза с Англией оказалось ошибкой. Убеждение это подытожено словами Гольштейна:
«Угроза взаимного соглашения с Россией и Францией является просто английской уловкой… Разумное соглашение с Англией, по моему мнению, может быть достигнуто лишь тогда, когда чувство принуждения станет более сильным».
Гольштейн был хитер: под своим «разумным соглашением» он подразумевал не союз равных, а взаимоотношения господина и вассала. Но как бы ни было беспомощно и бессильно в своих деяниях британское правительство, и каким бы беспомощным оно ни могло казаться человеку, пропитанному философией «железа и крови», — все же этого недостаточно, чтобы объяснить удивительную самонадеянность Гольштейна. Это показывает, что действительные заботы Германии и причины этих забот лежали не в каких-либо достойных Макиавелли дьявольских замыслах. Корни этого надо искать скорее в ослеплении — в таком состоянии, которое правильно выражается словами школьника, жалующегося, что у него «пухнет голова».