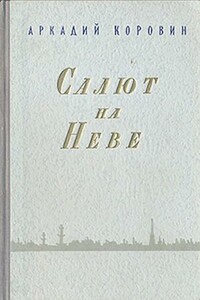Дневник из сейфа | страница 24
Скорее бы зажглось проклятое табло.
Свое дело ты сделал, последнее твое дело в «этом лучшем из миров», как говаривал старик Лейбниц. А умирать все равно где-нибудь и когда-нибудь надо…
О такой ли судьбе единственного сына мечтал твой отец — провинциальный учитель немецкого языка с жиденькой чеховской бородкой и вечно сползавшим пенсне, добрейший чудак, приводивший к себе домой своих гимназистов, чтобы всю ночь напролет читать с ними не рекомендованные синодом поэмы богохульника Гейне? Или мать — хрупкая большеглазая мама, заставлявшая свое пухлое чадо часами перекатывать сверху вниз и снизу вверх бесконечные гаммы?
Смешной увалень в бархатных штанишках, в заботливо отглаженной курточке с блестящими перламутровыми пуговицами — «тульский вундеркинд», как дружно окрестили его столичные газеты после первого же выступления на концерте учеников Санкт-Петербургской консерватории, — мог ли тот пай-мальчик, всеобщий баловень, представить себе, какими торными тропами поведет его судьба!… Хотя стоит ли упрекать судьбу? Просто мальчишка постепенно вырастал, и слишком жадным был его интерес к окружающему, слишком живо откликался он на всякую несправедливость, чтобы находить забвение только в мятежных сонатах и безмятежных ноктюрнах — в окна консерватории врывалась «Варшавянка», сопровождаемая яростным свистом казацких нагаек…
Быть может, если бы его не исключили «за участие в студенческих беспорядках», не выслали по этапу в Сибирь… Нет, вряд ли бы это что-нибудь изменило. Все равно не смог бы он оставаться лишь зрителем в революции. И рано или поздно трудности нелегальной работы с ее жесткими конспиративными требованиями неизбежно выявили «второе я» его мечтательно-поэтической натуры, — психологическое чутье и находчивость — неожиданные для него самого качества, позволявшие ему, юноше, распутывать такие сети царской охранки, перед которыми порою бессильны были куда более опытные товарищи.
Но тогда, в молодости, эти способности значили для него много меньше, чем музыкальные, и он долго еще продолжал верить, что станет пианистом, — и в те годы, когда организовывал побеги из ссылки, и в круговерти Октябрьских дней, и в тяжелую пору гражданской воины, призвавшей его в Чека («само собой, временно, товарищ людей не хватает»). Только в двадцать первом году, когда после… надцатого напоминания о давно обещанной демобилизации, его вызвал к себе Дзержинский и виновато попросил выполнить напоследок крайне важное поручение, связанное с отъездом за границу («нет, нет, на этот раз действительно последнее, просто, ну, некому больше, сам видишь»), и когда бывший «тульский вундеркинд» в комиссарской кожанке посмотрел на измученное, в лиловых тенях лицо Феликса и не смог отказать, тогда лишь понял он, окончательно понял, что работа его уже не изменится…