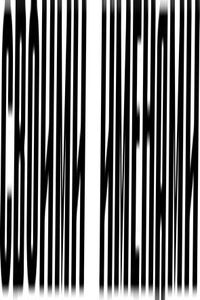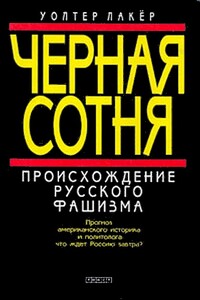Левая Политика. Между выборами и забастовками | страница 80
В общем, не хвост вертит собакой, а собака — хвостом. Слабость левого движения — реальная, земная основа слабых позиций «левого» дискурса, а слабость последнего — реальная основа размытости «языка», или «метаязыка», как изволит выражаться глубокоуважаемый автор. Конечно, не всё так просто. Стихийные подъёмы движения лишь создают условия для более широкого распространения «дискурса», и в такой момент определяющим становится качества самого «дискурса», а также «среднего члена» между стихийным движением и классовым сознанием — то есть политической организации. Однако делая активным началом язык, мы в этом вопросе ровным счётом ничего не поймём. Лишь запутаем себя и читателя. Например, вот так:
«В сущности он [левый дискурс] вообще исчез. Исчез в той степени, в какой стал достоянием того всеобщего глобального метаязыка, ставшего вместилищем всевозможных идеологических практик», — продолжает блуждать в трёх соснах Ильченко.
Но ведь «левый дискурс» в лучшие годы своего существования формировался именно из всеобщего «метаязыка», то есть простого, человеческого, общепризнанного языка, которым пользовалось общество и учёные того времени. Социологические термины левых — такие как буржуазия, пролетариат, класс и т. п. — взяты из живого французского языка. Философские термины — в основном из немецкого, к тому же затем они были очищены от излишних усложнений терминологии, которые были характерны для гегелевской школы. Термины Марксовой политэкономии взяты в основном из английской, опять же не левой, буржуазной, экономической литературы и т. д.
Таким образом, левые, по крайней мере марксисты, никогда не занимались выдумыванием собственного языка, на который у них были бы некие исключительные права. Поэтому ни радоваться, ни плакать по поводу растворения левого языка во «всеобщем глобальном метаязыке» не стоит. Тем более не стоит искать причины несчастий левого дискурса в «самой природе метаязыка левых, его исходной структуре», как советует нам Ильченко. Не лучше ли поставить неудачи «дискурса» в вину тем левым, которые принимают идеологию и элементы политической практики своего классового врага? Думается, что именно так поставили бы вопрос Маркс и Энгельс.
Заставив нас повернуть на «лингвистическом повороте», Ильченко не останавливается. Дальше мы узнаём, что левая теория — это не отражение противоречий капиталистического общества, а миф, который имеет свои «ареалы распространения». Вслед за Роланом Бартом Ильченко представляет себе общественное сознание сотканным из мифов. Наверное, не стоит и говорить, к чему ведёт такая подмена. Если теория левых — это не отражение действительных противоречий капитализма, а миф, призванный «переформатировать» общественное сознание в необходимом левым духе, навязать обществу свой «метаязык», то задача левых организаций будет состоять в продуцировании подобного мифа. Миф можно создавать какой угодно, потому что никаких объективных критериев его оценки не существует, за исключением того, насколько широким кругом лиц этот миф разделяется. Получается политика совсем в духе КПРФ, которая уже давно занимается продуцированием почвеннически-националистического мифа, не без основания полагая, что это поможет партии завоевать несколько дополнительных мест в Госдуме.