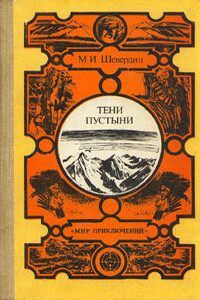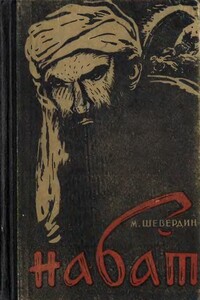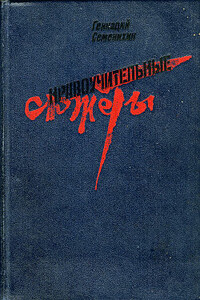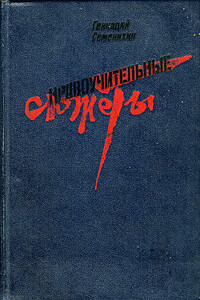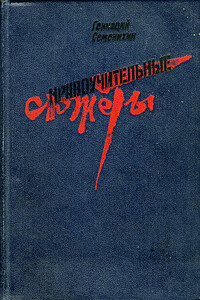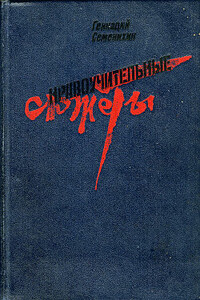Вверяю сердце бурям | страница 16
Конечно, дарвазабону было бы гораздо интереснее, если бы удалось в великане мороженщике, в этом, на первый взгляд, увальне раскусить что-нибудь вроде заговорщика из смутьянов-джадидов или, еще лучше, большевого лазутчика из Ташкента, замыслившего злое против самого эмира. О! Вот бы тогда на дарвазабона хлынули ливнем из тучи благодеяний халаты, монеты! Но и интриган, возможно, посягающий на неприкосновенность священного ложа эмира, тоже не такая уж мелкая дичина.
«Мороженое! И кому вздумал, болван, голову морочить, ему — самому дарвазабону Абдуазалу, охраняющему честь госпожей супруг эмирских, уже без малого два десятка лет... Мы и у Музаффара-эмира, и Ахада-эмира служили. И милостями Сеид Алимхана не обделены. Очень уж наши халифы в отношении чести своих жен щепетильны... А он тут мороженым нас за нос водит. Вот посадят голым на лед, быстро заговоришь».
Зная о цели пребывания сына в летней резиденции Сеида Алимхана, Мерген боялся за Баба-Калана, за свойственные ему с детских лет простодушие и бесхитростность.
Человек решительный, человек действия, Мерген принялся,. как он думал, выручать сына из западни, в которую тот лез, по его мнению, без оглядки.
Едва Баба-Калан, выставив на вытянутых руках поднос прямо перед собой, принялся шутовски восхвалять свой сладкий товар: «Эе, берегите зубы, красавицы ханши!..», как Мерген поднялся во весь свой рост и, почти упираясь дервишеским куляхом в закопченные болоры потолка, загнусавил:
— Я дервиш «шазилиё»! Я дервиш, я нищий из тридцати пяти тарикатов. Я не сменю своего заплатанного куляха дервишеского на венец шахиншаха. Эй, наглый юноша, куда лезешь со своим оскверняющим рот мороженым? Я в рот не возьму твою сладкую гадость, я — благородный ходжа, потомок пророка, воздерживающийся от аромата духов, от стрижки волос и ногтей... И ты знаешь, сынок, что при бритье бороды неловкий может раздавить насекомое, ставшее на моей священной коже священным. Или еще хуже: неловко выдернет у меня волосок и сонм нечистых дьяволов ворвется сюда и растерзает меня, посланника добрых дел. Эй, ты, йигит с подносом, взгляни на меня, наставщика, и повинуйся! Поостерегись! Жизнь дороже всего. Никто не хочет толкать себя в яму, именуемую могилой. Верующий должен сохранять свою жизнь. Это говорю тебе я — дервиш «шазилиё» в платье кающегося. Два куска полотна, которых не касалась иголка. Один кусок на плечах, другой на бедрах, прикрывая срам...
С широко разинутым беззубым ртом, с трясущейся бороденкой дарвазабон являл собой олицетворенное изумление и восторг. Он ничего не понимал в словах Мергена, но как любитель духовных песнопений и всякой духовной музыки, восторгался дервишем. А Мерген принялся поучать Баба-Калана: