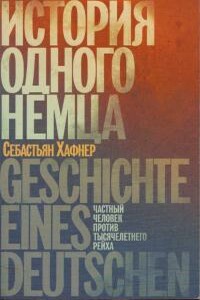Уинстон Черчилль | страница 8
Для семейной жизни у этих людей не было времени. Ребёнок узнавал своих родителей лишь взрослым. В возрасте одного месяца младенец попадал в руки воспитательницы, которая впредь заменяла мать. (Эта воспитательница, госпожа Эверест, искренне любила маленького Уинстона Черчилля. Когда она позже в своём чепчике посетила мальчика в его привилегированной частной школе, он обнял её перед всем классом — акт чрезвычайного морального мужества. Когда она умерла, двадцатилетний гусарский лейтенант был рядом с ней, и при её погребении видели, как он плачет. Её портрет висел ещё на стене рабочего кабинета премьер–министра во время Второй мировой войны). На четвёртом или на пятом году жизни к воспитанию подключалась гувернантка, которая преподавала начальные уроки. В семь лет ребёнок шёл в первый интернат, в подготовительную школу, в тринадцать лет во вторую — в привилегированную частную школу. Обе школы были адом, где процветала порка, и раем товарищеских отношений. Обе совершенно осознанно были нацелены на то, чтобы сломать своих питомцев и затем склеить из них снова других людей. Когда выпускники этих известных английских школ в восемнадцать или в девятнадцать лет шли в Оксфорд или в Кембридж, они уже все обладали стандартной, не лишенной привлекательности, правда искусственной второй индивидуальностью, сравнимой с усечёнными деревьями во французском саду в стиле барокко. Затем в возрасте двадцати одного года или двадцати двух лет они вступали в жизнь, знакомились, если дело шло хорошо, со своими родителями и были приучены к тому, чтобы нравиться обществу, презирать его совершенно определённым образом и, при соответствующей одарённости, господствовать над ним.
Эта система воспитания давно опробована и редко даёт сбой. Её давление мощно и ужасно, силе её внушения почти невозможно противостоять. Тот или другой ломаются на ней, большинство преодолевает её тяготы и более или менее добровольно, более или менее полно формируются ею и приобретают её отпечаток на себе. Позже они оглядываются на свои школьные годы как на самые счастливые годы своей жизни.
Почему сопротивлялся юный Черчилль, почему он решился на безрассудную борьбу против нажима, которому почти невозможно противостоять? Можно лишь ответить: именно потому, что это был нажим. Позже он писал: «Мои учителя имели значительные средства принуждения в своём распоряжении, однако всё отскакивало от меня. Там, где не было обращения к моим интересам, моему здравому смыслу или к моей фантазии, там я не желал или не мог учиться. В течение всех своих двенадцати лет учёбы никто не смог научить меня написать правильное предложение на латыни. И с другой стороны: против латыни у меня было врождённое предубеждение, которое по–видимому блокировало мне её понимание».