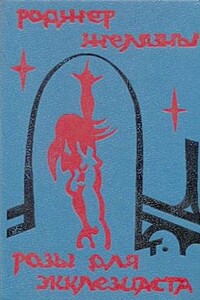Ладья Харона | страница 63
И на этот раз он обыграл своего противника. Оба остались довольны беседой. На прощанье Кукугуза проговорился: «Вы, сами того не зная, многим помогли сделать карьеру…»
Да, Замышляев догадывался, что публикации в центральной прессе его провинциальных коллег — это плата за предательство организации, не посмевшей вступиться за своего товарища. Это напоминание ему, что только послушание приводит к успеху. Дело не ограничилось публикацией руководителя болванской писательской организации Пустобрехова в центральной печати. Кто–то орден получил, кто–то лычку. Могучее литературное воинство не собиралось защищать зарвавшегося гения. Вот и оставалось: «Жмур–жмур–жмур».
Замышляеву всегда хотелось вырваться за пределы земного видения. Поэтому он любил сны и презирал будничность. Прикованность к Земле была невыносима, словно из всех богатств живописи ему вручили альбом одного художника. Он инстинктивно чувствовал свою принадлежность к другим мирам. Иногда его видения из снов перекочевывали в действительность, как это было в случае с прозрачной девочкой.
Внезапно он оказался на другой планете и там увидел прозрачную девочку с флейтой. Она пасла одуванчики.
— Я вовсе не прозрачная, — сказала она, прочтя его мысли. — Просто у меня сейчас такое настроение.
Она поднесла флейту к губам, и одуванчики, как цыплята, бросились к ее ногам.
— За ними глаз да глаз нужен, а то разбегутся. Как я потом докажу, что они росли на моем дворе?
У этой планеты была особенность: попадавшие на нее люди внутренне становились детьми.
Вернувшись с нее, Замышляев так и не стал взрослым человеком. Не вступил в СЛН, продолжал ненавидеть ИВИ. В Питере ему запретили выступать. И он жил иллюзией: вот закончит роман… У него не было выбора. Он был создан природой для этого дела. А мыльные пузыри вроде генсека Порчи наложили запрет на занятие литературой. Рукописи его никуда не доходили. Разве что в «Красный фонарь». Эти храбрые ребята знали, когда оскалить пасть, а когда и хвост поджать. На этом и продержались в крайних левых всю перестройку. В Замышляеве их смущало одно обстоятельство: диссидент, а русский. Они чуяли в нем подвох. Он разрушал их представление о реальности. Русскому полагалось оставаться шовинистом, черносотенцем, а не лезть в заповедную область диссидентства, облюбованную мучениками другой национальности.
«Ничего, — мечтал опальный автор. — Закончу роман — получу Нобелевскую премию… Тогда сам Копытич разразится в «Красном фонаре» покаянной статьей. И совесть русской интеллигенции Дмитрий Сергеевич всхлипнет: проглядели, мол, как Бродского…»