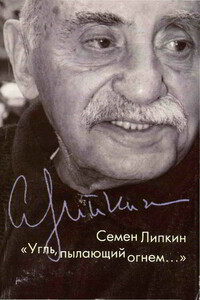Жизнь и судьба Василия Гроссмана ; Прощание | страница 95
Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:
Вслед за верующим румыном я прошу у Господа простить меня, если скажу, что Гроссман был святым.
1984
Книгу, которую читатель сейчас прочел, я написал пять лет назад, но мне кажется, что прошло не пять лет — прошла целая эпоха. Моя жизнь сложилась так, что ее, эту жизнь, новая эпоха гласности и демократии наполнила особенным светом. Я должен об этом рассказать, чтобы прояснилась загадка опубликования романа В. С. Гроссмана.
Я поместил несколько стихотворений, вполне безобидных, в машинописном альманахе «Метрополь». Авторы альманаха подверглись жестоким нападкам Союза писателей. Двух самых молодых, наименее защищенных, исключили из Союза. В знак протеста против расправы с молодыми я и моя жена, поэт Инна Лиснянская, вышли из Союза писателей.
На нас обрушилась лавина преследований. Исключили из Литературного фонда, выбросили из поликлиники (что в отношении меня было противозаконным актом, так как ветеранов войны из поликлиник не выбрасывают), перестали печатать не только наши оригинальные произведения, но и переводы, получившие в свое время высокую оценку на страницах печати. Были и другие прелести: угрозы по телефону, требования покинуть родину, посещения квартиры в наше отсутствие с нарочито оставленными следами, вызовы на комиссии, на которых с нами разговаривали компетентные лица.
В этих условиях я не мог сообщить о книге Гроссмана то, что собираюсь сделать сейчас.
Как я уже писал, Гроссман предложил «Жизнь и судьбу» журналу «Знамя» летом 1960 года. Наступила осень, а от редакции ни ответа, ни привета. Однажды, а дело уже приближалось к зиме, Е. В. Заболоцкая и я сказали Гроссману, что хорошо бы один машинописный экземпляр сохранить в безопасном месте. Гроссман внимательно, долго и хмуро посмотрел на нас и спросил:
— Вы оба опасаетесь чего-то дурного?
Не помню, что ответила Екатерина Васильевна, а я сказал примерно следующее: