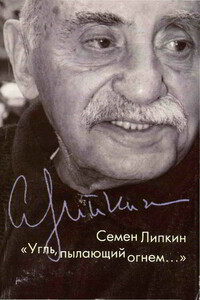Жизнь и судьба Василия Гроссмана ; Прощание | страница 94
Тут Гроссман останавливается. Его герои тоже. Они — на пороге молитвы. Всего лишь один шаг остался на пути потрясающего восторга перед двойной тайной — тайной познания бездонной рациональности мира и тайной Бога, который есть Слово-Смысл, Логос, Бог-сын Иисус Христос. Всего лишь один шаг остался, но Гроссман этого не ведает.
Крайне важна рукопись Иконникова. Это — заповедь, философия Гроссмана. Скажем кратко: человеческая доброта, подземная, инстинктивная, слепая, непреодолимая. Христиане знают, что это адаре, на иврите — ахава, Любовь Бога, Любовь Христа, который сам есть не что иное, как Любовь, эта Любовь присуща человеку с первого дня творения.
Гроссман-Иконников не называет эту Любовь по имени. Хотя он еврей и русский, он слишком долго был марксистом-ленинцем, слишком долго был слепым… Невежество, предрассудки, глухота мысли. Он так и не узнал ни Христа, ни даже Будды, и еще меньше — их воплощение в миллиардах людей, следующих за ними. Однако я надеюсь, что Христос сжалится надо мной и простит мне, если я осмелюсь сказать: Гроссман был недалеко от Царства Божия».
Эти слова принадлежат человеку, который лично не знал Гроссмана, никогда его не видел, но постиг его сущность гораздо глубже, чем многие, видевшие и знавшие Гроссмана. В русской — да и в мировой — литературе не так-то просто найти писателя, чей нравственный идеал был бы соприроден его человеческим чертам, был бы с ним слит. Мы это не можем сказать даже о Пушкине, даже о Толстом, основателе одного из направлений христианства. В России полное слияние человеческих черт с нравственным идеалом художественных творений я нахожу только у Короленко, Чехова, Гроссмана. Но первые два жили во времена, которые кажутся нам баснословно чудными, а не теперь, когда простая житейская порядочность, вследствие своей редкости, воспринимается как нечто удивительное, сверхпрекрасное.
Может быть, поэтому и считали Гроссмана неуживчивым, угрюмым, резким, что не был он похож на своих приятелей-писателей, год за годом терявших человеческое начало (такие, как Платонов, — исключение, потому-то так трудно сложилась его судьба). Никто не требовал от писателей, чтобы они, как некогда Пушкин, написали послание заключенным во глубине сибирских руд, но как могли эти художники слова печатно заявлять о том, что надо строго покарать их собратьев, исключить, осудить, заточить, изгнать? Никто не требует от академиков, чтобы они, как некогда Чехов, протестовали против того, что преследуют их собрата, но почему они трусливо отказываются от общения с ним? Потому что они, эти художники слова, эти академики — темные, в них нет света жизни.