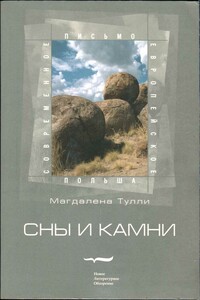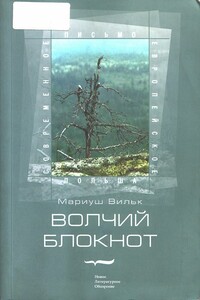Гувернантка | страница 17
Я приник ухом к двери. Тихо? Спустились вниз? Так бесшумно? Никаких шагов?
Я выглянул посмотреть, что делается в коридоре, а они расхохотались: «Ой, нехорошо, пан Александр, нехорошо, как не стыдно!» Они стояли передо мной, смеющиеся, в огнях и блестках нарядных платьев, такие красивые и свободные, шелестящие тюлем и лентами из тафты, что я, чувствуя, как сердце переполняется радостью, подхватил их под руки и, присоединив свой смех к их смеху, торжественно, будто распорядитель бала в Собрании, повел вниз по лестнице в салон. Не хватало только музыки! Не беда! Мы тихонько запели арию из «Кармен», шутливо раскачиваясь в такт, а там, внизу, стукнула, открываясь, дверь: отец с Анджеем? Итак, я шаг за шагом вел панну Эстер, панну Хирш и панну Далковскую по ступенькам в салон, а отец, даже не сняв пальто, подошел к лестнице и, увидев нас наверху, приветствовал восхищенными возгласами, скрестив на груди руки красивым жестом турецкого паши из оперы Вистари.
А потом — аплодисменты! Это Анджей хлопал в ладоши что было сил, восхищенно щуря глаза, словно смотрел на три приближающихся солнца.
Mitteleuropa[13]
Мир под дождем стыдливо обнажал свои лишаи и шрамы, за оконным стеклом расплывались контуры домов напротив, сквозь застывшие над куполом св. Варвары тучи проглядывало желтоватое солнце, такое слабенькое, будто вот-вот погаснет. В такие часы — безветренные, темные от серой влаги — тщетно обращаешься даже к самым ярким воспоминаниям, перестаешь верить в то, что случившееся в прошлом еще можно исправить. Вокзалы, на которых я пересаживался с поезда на поезд. Темные реки под мостами, на которые я смотрел из окна купе. Мглистые немецкие равнины. Мазовецкие поля, мокнущие под мелким дождичком. Мокрые улицы в Вене. Скользкие каменные плиты площади перед Кельнским собором. Вода, стоящая в канавах при подъезде к Груйцу. Жирно поблескивающая брусчатка перед ратушей в Гейдельберге.
Mitteleuropa…
Как говаривал Ян? «Нас ведь ничто не способно насытить. Возможно, это доказывает, что существует иной мир. Душа всегда рвется туда, где нас нет. Здешний мир ей не по вкусу». Глядя из окна на черные от сырости деревья, на серый фасад дома Есёновских, на мокрую мостовую Новогродской, на неподвижные тучи над куполом св. Варвары, я мечтал только об одном: ничего не чувствовать, не видеть, не слышать, но одновременно — и от этого невозможно было отделаться, — одновременно чувствовал, что этот мир — мир, на который я смотрю из окна, не мог быть придуман лучше, что тут произошло попадание прямо в десятку. Как же все хорошо придумано — говорил во мне один голос, принося обещание покоя. Как же все отвратительно придумано — возражал другой, и два этих голоса, препирающиеся в душе, наполняли ее черной меланхолией.