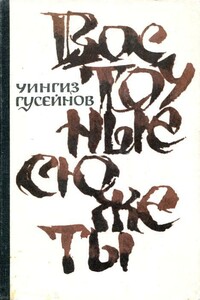Заря над Уссури | страница 115
— Ой, что ты, голубонька! — испугалась, руками замахала Марьина мать, побледнев как стена, зашептала моляще: — Зачем такую черную думку носишь? Это у тебя от тяжести. Завсегда бабам невеселые мысли приходят. «Не выживу, не разрожусь…» А ты не думай. Носить надо празднично, весело: дитё будет веселое, смешливое…
— Я ли, маменька, не веселая была, — сказала, вздохнув, Марья, — а тут все об одном, о Пете думаю. Не хочу я его одного, бесприютного, оставлять. Такая жалость берет, никогда я больше не услышу его ласкового слова «Марьюшка»…
— Марьюшка! — вдруг раздался с «парадного» хода голосок дяди Пети. — Где ты, Марьюшка?
Он заглянул к ним, расцвел, как маков цвет, запел:
— С маменькой беседуешь? Милое дело родителей почитать. Выдь ко мне на минуточку в спаленку, Марьюшка…
Молодая женщина тоже расцвела на секунду, переглянулась с матерью и, облизнув пылающие малиновые губы, сказала просительно:
— Не говори ему, маменька, о моих страхах… Запечалится, задумается. Все равно рук не подложит, если помру.
— Иди, иди, Машенька, — потерянным голосом сказала мать. — Какие ты страшные слова говоришь! От тяжести это у тебя, пройдет, — повторяла расстроенная старушка.
Лерка не все поняла из этого разговора, но почему-то ей стало жутко при виде прозрачно-белого, без кровинки, лица Марьи. Пятясь потихоньку, вышла девочка на крыльцо и поспешно побежала домой. «Марья какая худая стала, под глазами кожа черная, как земля», — с острой жалостью думала Лерка.
Дядя Петя позвал для расчета Настю: не с девчонкой же разговор вести. Настя смиренно ждала хозяина на кухне, зачарованно озираясь на полки, богато убранные хозяйственной утварью. Пузатый никелированный кофейник, эмалированные кастрюли, чугунные сковородки всех размеров, какие-то диковинные мешалки.
На поставце гордо возвышался сверкающий никелем ведерный самовар.
«Много добра у дяди Пети. Живет как барин, будто и войны и голода нет. По-городскому живет», — думала Настя, настороженно прислушиваясь: не идет ли хозяин?
Со двора в кухню вошла Марья с подойником из белой жести в руках. Парное молоко, покрытое белой пушистой пеной, чуть не выплескивало через край. Марья, ойкнув, с трудом подняла подойник, поставила его на широкую лавку, стоящую у окна.
— Здравствуй, Настасья! — приветливо кивнула хозяйка. — К моему пришла? Сейчас позову.
Марья вышла из кухни. Настя ошеломленно, будто впервые в жизни видела, смотрела на ведро с молоком. «Куда им столько? Неужто все вылакают вдвоем? Галюшка да Лерушка с коих пор глотка молока не пробовали. Верно, и впрямь люди говорят: „Пустопляс — на овсе, а работный конь — на соломе“, — причитала она мысленно. — Кормят коров, не жалеют, а у коровы молоко на языке…»