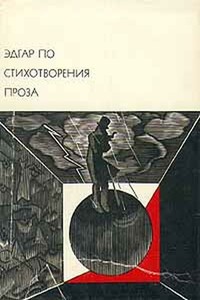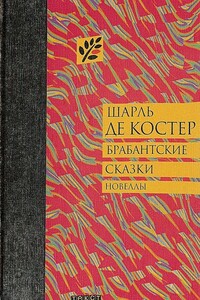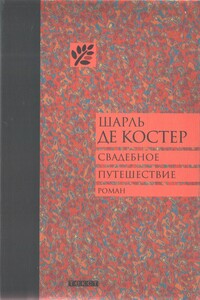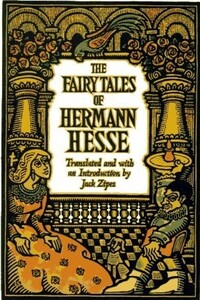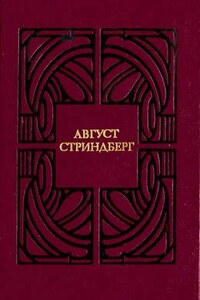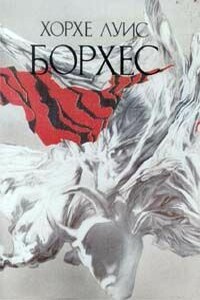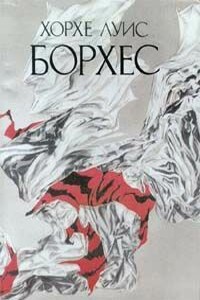Легенда об Уленшпигеле | страница 7
Но каково величие в страдании! Каково умение страдать и заставлять страдать! Сцена истязаний Клааса, следующая за ней ночь, призрак, вдова и сын, выкапывающие из остывшего костра покрытое пеплом сердце трупа, «мешочек мести», договор «ненависти и силы» между страдающими матерью и сыном; «ненависть и сила» — лейтмотив, отдающийся в двух окровавленных телах и возносящий их над всеми страданиями, — сильнее смерти, — вся эта трагическая сюита достигает высочайших вершин эпопеи.
Ненависть и сила, месть и неумолимость… Вот они — «исповедники и мученики народа Фландрии»!
И я вспоминаю о том, что в том же самом веке эта ненавидимая Испания создавала доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского… Кто бы мог подумать, что это добродушие исходит от нации, которая угнетает? А эта жестокость — от нации угнетенных?
Еще и другое мнение следует пересмотреть. Верхарн говорит о «молчаливой вере», которая выражена в Уленшпигеле.
Какая вера? Уж конечно, не католическая. Она тут повсюду презираема и ненавидима. Отвращение или презрение к церкви свободно переходит в самый настоящий антиклерикализм. Владыка из Рима — шут этой книги, зловещий или нелепый; лучшие фарсы «Уленшпигеля» разыгрываются над ним, — как, например, история с монахом, которого запер в клетку и откармливал Ламме.
Но если Рим потерял здесь все, то и Женева ничего не выиграла. И если одна из двух религий — католическая — выведена в смешном свете, то другая — протестантская — не выведена никак. Нам возразят, что к этой вере примкнули восставшие. Но есть ли там хотя бы намек на великого христианина? На их шляпах можно заметить только серебряный полумесяц с такой надписью: «Liever den Turc als den Paus» («Лучше служить султану турецкому, чем папе»). Единственный верующий в книге, не вызывающий антипатии, — это жена Ламме, глупенькая «крошка», которую дурачат и которую щупают католические монахи. Это немного. И мы вправе считать, что этой «фламандской Библии» недостает половины души Фландрии: Фландрии Руисброка, Фландрии Мемлинга, Фландрии мистиков, ханжей, великолепных соборов и святых изображений. Где же святые? Где богоматерь? Где Христос? Где сам бог?.. Бог не интересуется несчастьями Уленшпигеля и свободами Фландрии.
«…Я хочу спасти землю Фландрскую. Я спрашивал творца неба и земли, но он мне ничего не ответил».
И Катлина говорит Уленшпигелю:
«Творец не станет тебя слушать. Тебе надобно было сперва обратиться к духам стихий…»
Мир Стихий — вот где настоящие боги. С ними одними общаются герои де Костера. И единственная вера этой поэмы — это вера в природу, но зато она бурлива, как поток. Она струится через всю поэму. Ее великие шлюзы открывают дорогу водопадам в необычайном видении, которым заканчивается первая книга. Уленшпигель и Неле, прижавшись друг к другу, нагие, спящие, брошенные в пространство, присутствуют «на шабаше весенних духов, на пасхе соков земли». Они попадают на чудовищный пир вселенной; они вместе со всеми опьяняются соками весны. И вихревой хоровод, где миллионы насекомых смешиваются с миллионами светил, духи — с деревьями, а ветры — с тучами, уносит их, задыхающихся, пьяных, полумертвых, к подножию Владыки Весны и его белокурой самки. Они вызывают властителей Жизни, Силы, Рождения. Они отвергают бога: