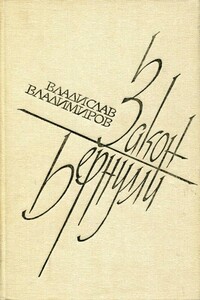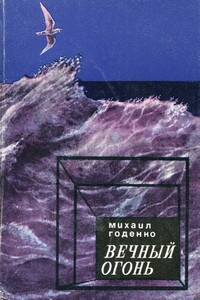Пушкин на юге | страница 59
Облака быстро бежали по небу, как нашалившие дети, и когда все добрались наконец до дому, солнце сияло так весело, как будто смеялось на какую–то очень забавную, только что происшедшую шутку. На нарядные светлые брюки Пушкина, ставшие шоколадными, невозможно было без смеха смотреть; мисс Мяттен шагала, не роняя достоинства и переваливаясь, как утка, только что вылезшая из трясины. Да и все были мокры до нитки… Легкое облачко пара зыбко, чуть видимо окутывало каждого из шагавших людей. Но что может быть веселее: быть молодым, вымокнуть на дожде и сохнуть на солнце! Так делают все: птицы и звери, травы, деревья…
Сухая и теплая, стройная, легонькая — с улыбкой встретила их при входе Елена. В руках ее была тяжелая кисть винограда. Поодаль стоял тот самый ослик, которого Пушкин видел в горах. Молодой певец заботливо укрывал початую корзину.
Солнечный свет падал на девушку со спины, золотя отдельные выбившиеся волоски и всю фигуру ее очерчивая легкою линией света. Рука с виноградом, отведенная в сторону, чуть розовела меж пальцами, и сам виноград, продолговатый, прозрачный, был как эти, пронизанные солнцем, пальцы девушки…
Дома все мылись, переодевались. Внизу Николай играл на рояле, и звуки полнили дом. Порою отчетливо сквозь музыку слышен был нецеремонный голос отца; он весело покрикивал слова домашней команды:
— Олена! Ты, брат, сухая, помоги отыскать Катеринины туфли. Девушка их куда–то засунула…
— А англичанке горчицы в чулки: это нация нежная…
— Марию и Соню в постель: поколь не согреются. Пушкин отдался во власть своей няньки — Никиты.
Тот быстро стянул с него сапоги, одежду, белье, растер Александра Сергеевича грубою простыней и подал свежее белье, от которого пахнуло ставшим привычным за последнее время ароматом фиалок: у Раевских сухие фиалки клали в белье.
Переодевание не много заняло времени, но Пушкин, отослав Никиту, сам медлил сойти вниз. Николай играл что–то грустное, даже мечтательное, такое, казалось бы, неподходящее этому здоровяку и богатырю. Когда–то из всех Раевских он знал его одного, и вот теперь — сколько уже! — живет вместе с ними со всеми. Сейчас он отсюда, с этого чердака, как бы глядел на весь этот дом и на себя между другими. Было ему здесь хорошо, как никогда еще в жизни, как не бывало и в родной семье своей. Но отчего ж это так?
Он уже много думал об этом: «Не семья, а друзья!» И уже свыкся с мыслью — так жить. И вот он теперь в чужой, но какой дружной семье! И на свободу его здесь не посягали, и был он меж нами как свой, хоть и не родной: в этом было своеобразие, какая–то новая свежесть очарования, неповторимая прелесть.