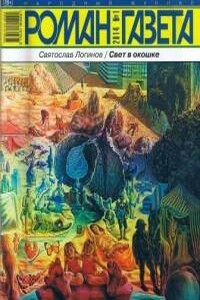Тучи над городом встали | страница 21
И вообще отец понимает... Но что-то есть в ней забитое. Может, это оттого, что родители погибли в первые дни войны. А может, она и всегда такая была, такой уж характер. Или оттого, что меня боится, или еще почему-нибудь? А чего ей меня бояться — кто я, «злой мальчик», что ли? Я ведь с ней вполне нормально, только без всяких разговоров, без всяких там симпатий и антипатий. Здравствуйте — до свидания. Но вот сегодня я треснул, как старый, сгнивший рояль, треснул и издал истошный звук, аж самому противно. Но извиняться я не могу. Мура это — извиняться. Пусть барышни извиняются.
Она все стоит, смотрит в пустые миски, плечи у нее опущены. Все-таки она женщина, а женщины всегда переживают. Мать всегда все переживала. Но мать быстро отходила. «Ты не умеешь сердиться, — говорил ей отец, — это плохо. Настоящие люди должны уметь сердиться». Мне кажется, здесь он был неправ.
Я быстро открываю дверь и вхожу в комнату.
— Знаете, что... Я за это время что-то проголодался. Я, пожалуй, поем.
Она долго неулыбчиво смотрит на меня. Потом наливает в кастрюлю вторую миску, зажигает керосинку.
— Да вы не грейте, — говорю я ей. — Я и так могу.
— Зачем же так? Мне погреть нетрудно.
Стоит у керосинки, курит самокрутку, дым у самокрутки такой, что даже у меня на расстоянии глаза слезятся. А я сижу за столом, молчу. Положение идиотское. Она тоже молчит. Бледная она все же, но это, неверно, оттого, что курит... Она молчит, и я молчу. Только у нее дело есть — суп греть и курить, а я сижу, раскинув руки на столе, будто я не у себя дома, а в школе, на экзамене, стол пустой и шпаргалок нету. Тут поневоле раскинешь руки. А суп, подлый, все не согревается, только кастрюля чуть позванивает. Наконец звон этот прекратился и перешел в густое гудение, и снова нетерпеливо и яростно забил пар. Она молча налила мне одному.
— А вы?
Она поколебалась. Я подумал: видно, ты-то умеешь сердиться, ты-то из незабывчивых. Я уверен был, что она не станет есть со мной, а будет дожидаться отца. Она мгновение поколебалась, сделала последнюю затяжку, исподлобья поглядела на меня серыми, широко отставленными друг от друга глазами и молча плеснула в свою миску супу. Именно плеснула, а не налила деревянной ложкой, бережно и старательно, как раньше. И все-таки она села со мной. Я придумывал, что бы ей сказать. Я уже чувствовал, что мне невыносима эта тишина, что у меня даже уши начинают болеть от этой тишины. Но я так и не придумал, что же ей сказать...