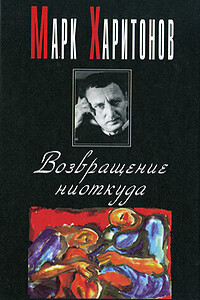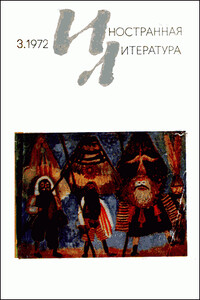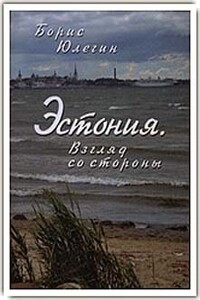Джокер, или Заглавие в конце | страница 13
Двенадцать лет — невелика разница, с годами она сглаживалась, становилась все несущественней, да я никогда ее всерьез не ощущал. Чужеродное вторглось в нашу жизнь, как зараза, ничто ее не предвещало. Неясное, смутное брожение, бурление в умах, чувствах, слово «перестройка» зачем-то предлагает себя, как будто что-то может пояснить. Заезжий немец, славист… как его звали?.. Клаус его звали, да, Клаус. расспрашивал меня о происходящем, оценил, выхлопотал приглашение на конференцию в Германию, тогда еще Западную, ФРГ. Происходящее доходило замедленно, воспринималось, как шум в голове: визит в потустороннее учреждение, называвшееся забытым уже словом «райком», райком партии, к которой ты никогда не имел отношения, но она все еще медлила расстаться с правом определять, решать судьбы. Неулыбчивые бесполые существа, помяв, пожурив, с неохотой, со скрипом разрешили открыть двери, выпустили в другую страну — а там другие двери открылись, беззвучно раздвинулись перед тобой сами. Теперь и у нас такие в любом магазине — но впервые! Другой мир, до тех пор ты даже не представлял — реально, не умственно — насколько другой. Другой свет в аэропорту, другой воздух, другие тротуары, дороги, другое выражение лиц, а уж витрины! В первый день особенное впечатление на меня почему-то произвела одна, с громадными фигурными изделиями из шоколада — как на деревенского мальчика. Не потому, что с трудом представилось, как люди здесь могут лакомиться таким скульптурным обилием, находят способ отломить кусочек от этих непомерных гладких объемов, — от удивления, что такое бывает. Смешно вспоминать. Забываем самих себя, какими были совсем недавно.
Ну, и успех, если это можно так называть. Никогда я ни прежде, ни потом не испытывал ничего подобного, просто даже не знал, что такое успех. Разумеется, он больше был связан с интересом к экзотичному приезжему из непонятной, пробуждавшей недостоверные надежды страны, тогда я этого не сознавал. Новое состояние охмеляло. Хотя и в моем докладе, может, что-то было. Ирония у Антона Чехова и у Томаса Манна. Чеховский способ смягчать жесткое, жестокое соприкосновение с реальностью, усмешка без глумления, юмор, позволяющий в этой жизни держаться. И аполлонийская отстраненность у другого, взгляд с иронических высот как способ уклоняться от выбора, от окончательных, обязывающих решений — до поры, пока фашизм не навязал позицию, не вынудил определиться без оговорок.