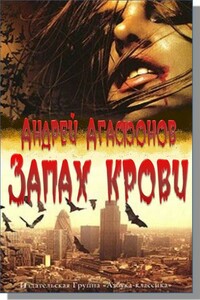Голый без электричества | страница 17
Поскольку пиво должно было сохранить свою свежесть и ядреность до вечера, я, отпив самую малость, бросал в банки куски ржаного хлеба и заматывал горлышки, поверх пластиковых крышек, суровой черной изолентой. И ехал в университет. 15 остановок на трамвае. 30 минут езды. Половину всех книг в своей жизни я, наверное, прочитал в этих трамваях.
«Тосковал — но тоска звенела, как трамвайные провода! Ветер солнечный, ворот белый, на дворе не грязь, а вода».
Она чаще всего не приходила. А даже приходя, избегала моих объятий. Поцелуи — единственное, что она мне позволяла.
Очень не любила, до гримас, когда я приходил к ней пьяный, а трезвым я не решался, да и не хотел. Однажды приехал в общагу, к принцу с принцессой, весь разобиженный, их долго не было, потом явились, я им плакался на жизнь:
Пришел к ней в гости, подарочки принес (бутылку водки — Лариса не пила водку, и коробку чипсов — «щепцы», гласила надпись на этикетке в гастрономе Эльмаша), а она меня выгнала…
Пока сидел, ждал их, мимо ходили соседи, я мерз и сочинял:
«Что судьба моя? Призрак, упрятанный в воду — сквозь меня пронесли серебро и свободу…»
«Что печаль моя? Призрак, ушедший из виду — сквозь него разглядишь ледяную обиду…»
По весне Ларису с каким–то женским недомоганием (у нее куча была этих недомоганий) положили в больницу, я по утрам ездил к ней на велосипеде. Ее палата была на первом этаже, она подходила к окну и позволяла мне брать ее руку, целовать и жать холодные пальчики. Велосипед валялся у скамейки. Соседки по палате прикрывали за собою дверь.
А в мае, после сдачи государственного экзамена, я сделал предложение по всей форме. Накануне резал запястье на левой руке. Сидел на кухне пьяный, кровоточащую руку опустив в большую миску с горячей водой, чайник со свистком закипал на плите… Сестра, как и было задумано, услышала свист, вышла на кухню (длинный коридор, мимо двух белых дверей), начала орать и злиться, бегать за бинтами…
Экзамен сдавал так: левая рука, замотанная заскорузлым бинтом, спрятана под стол, правая трясется, прямо передо мной — листочек с тезисами и приемная комиссия. Злоба была невероятная — на комиссию, на вопрос в билете (отечественная журналистика времен Отечественной войны), на Ларису, Марину, себя… и на бездну несоответствий — на то, что каждый из миров, в котором я временно пребывал, будь то Эльмаш, университет или моя раскладушка в комнате с зелеными стенами, делал вид, будто он, этот мир, — единственный и самый важный, и все, что вообще происходит, происходит именно в нем. Неважно ведь, как это называется: «любовь», «карьера», «правда жизни», «совесть»… Одно отрицало все остальное. Я был связующим звеном, но как раз со мной–то менее всего хотели считаться. И я им выдал, приемной комиссии: насчет журналюг, которые кликушествовали «убей немца!», ни дня не просидев в окопе на передовой; насчет всех этих бесстыжих баек, этой наглой похвальбы — «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, первыми врывались в города». Закончил так: