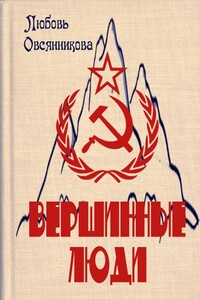Нептуну на алтарь | страница 35
Какую любовь она имела в виду — гражданскую, сыновью или любовь к женщине? Кого или что он успел так полюбить, что теперь горит ненавистью к варварам, к грубой, дикой силе? О, как он алкал мести! Как тяжело было знать, что он не бессилен, а не волен совершить ее! Он ходил, как больной, смотрел пустыми глазами на койки двух матросов, двух ребят из его электротехнического отряда, утонувших в холодной пучине вместе с «Новороссийском». Что из того, что они устроили здесь уголок памяти погибших? А как смотреть в глаза матери, той латвийской женщине, которая добилась разрешения посетить последний приют сына?
Та женщина провела в кубрике один час, и все 60 минут отчаянно плакала, причитая.
В памяти Николая всплыл расстрел сто пятидесяти восьми славгородцев в марте 1943 года, родных ему людей. Он припоминал, как они с мамой искали отчима среди растерзанных, теплых еще тел, как потом везли его телегой на кладбище, как хоронили в мерзлый грунт. И тогда это казалось ему сном. Казалось, что вот он проснется, и убедится, что это сон. Но самое сильно впечатление, отчеканившееся в душе навсегда, никогда не казавшееся сном, а остающееся ужасной правдой, — был крик Прасковьи Яковлевны Николенко. У нее на глазах немцы убили Евлампию Пантелеевну Бараненко, ее мать, — единственную женщину из всех расстрелянных. Убили прямо во дворе, под грушей, где она стояла, заламывая руки к Богу и моля пощады для своих детей.
Услышав крики и не подозревая, чем они вызваны, Николай, побежал к дяде Якову, где любил запросто пропадать на пасеке, подбежал и увидел… Запечатленная картина по сей день стоит перед глазами, будто он навсегда остался там, изваянный жутью. А за воротами все еще стоял немец, сделавший роковой выстрел. Он не успел опустить винтовку, и хищное дуло, казалось, искало новую жертву, примерялось к появившемуся во дворе Николаю, обмершему перед происходящим. Мальчишка загипнотизировано смотрел в четную точку и не двигался.
— У-и-и!!! Ой-и-и!! — неслось из уст охваченной горем женщины. — Изверги! Нелюди! — кричала она и зажимала рот рукой, боясь, что немцы поймут ее слова и отыграются на трехлетней дочке, стоящей рядом.
Из пробитого виска тети Евлампии струилась черная, густая кровь и растекалась по затылку, шее и лицу, а оттуда попадала на руки ее дочери, успевшей подбежать и обнять убитую за голову, напрасно стараясь заглянуть ей в глаза и увидеть там проблески жизни. Вытирая слезы, бьющаяся в горе женщина наносила красные мазки на свои щеки, пряча в ту материнскую плоть проклятия и стон беспомощности, ненависти и жажды мщения. И то было последнее, чем могла защитить ее Евлампия Пантелеевна, последнее — утопить в своей крови дочкину крамолу, бунт, а значит, — смерть.