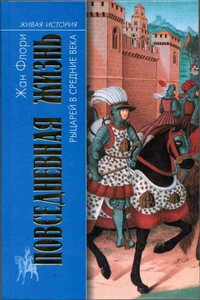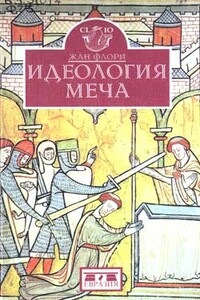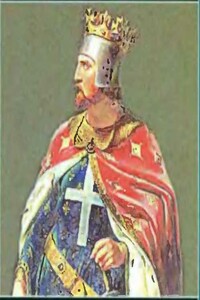Алиенора Аквитанская. Непокорная королева | страница 24
Конечно, уже с давних пор, как и во времена Алиеноры, для скрепления брачных уз Церковь требовала обоюдного согласия будущих супругов. Так, теоретически нельзя было женить сына или выдать замуж дочь наперекор их воле. Однако давление семьи и общества было настолько сильно и повсеместно развито, а власть родителей и авторитет обычая обладали таким принудительным воздействием, что в западных христианских обществах той эпохи (как и в традиционалистских мусульманских семьях сегодня) крайне редко можно было встретить девушку, не внявшую родительским указам и выбравшую супруга по собственной воле. Единственное средство, коим она располагала, дабы уклониться от брака, чрезмерно противоречившему ее желаниям, средство, допускаемое и даже поощряемое Церковью, — заявить о своем желании стать «невестой христовой», дав обет целомудрия в монастыре.
Иначе говоря, в те времена любовь в расчет не брали. Она была лишь случайным, побочным компонентом, который, впрочем, мог проявиться в семье, созданной подобным образом — явление не такое уж исключительное, но чисто случайное. Любовные чувства не так уж были и необходимы: как упоминалось, для одних первая функция брака была социального порядка, для других — морального. Для светской аристократии брак сводился главным образом к социальной, экономической и политической функции: его предназначение — объединить два дома, а не двух человек, в обществе, спаянном прочными узами солидарности кланового типа, в котором за индивидом не признавалось право на собственное существование. Для Церкви, все с большим интересом уточняющей законы в этой области, брак должен был укреплять нравственный порядок, извести полигамию и морализировать плотскую связь, поскольку человеческий род, согласно заповедям Священного Писания, должен просуществовать до скончания веков. Церковь и аристократия были едины в главном вопросе: брак устанавливает моральные, юридические и социальные границы, позволяющие при помощи строгого контроля над женщиной обеспечить «чистоту крови», необходимую для продолжения рода и передачи семейного наследства. Рождение детей — по возможности сыновей, чего так яростно добивались светские аристократические семейства, в надежде обеспечить себе потомство — являлось для Церкви той эпохи единственным нравственным оправданием соития, с которым ей приходилось мириться. Деторождение даже становится смыслом существования брака: по законам Церкви брак считается действительным лишь в том случае, если супруги вступили в плотскую связь. Если же ее не было, брак рассматривали как недействительный.