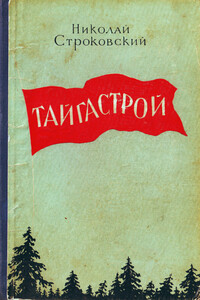Пора веселой осени | страница 15
Стучали по-женски — мелко, дробно. Андрей Данилович удивленно прислушался: свои никогда не стучатся — повернут в калитке кованое чугунное кольцо и поднимут защелку. Он сунул письмо под ватник, в карман пиджака, и прошел двором открыть калитку.
За воротами стояла незнакомая женщина с приподнятым от ветра воротником на светлом плаще.
— Простите, пожалуйста, в этом доме будут ясли? — спросила она.
— Какие ясли? — удивился Андрей Данилович. — Здесь жилой дом.
— Но мне в исполкоме говорили.
— В исполкоме?.. — он сморщил лоб, поднимая брови, но внезапно нахмурился, помрачнел. — А-а… Вот оно что… Ничего не скажешь: быстрые у нас в исполкоме на решения. Ну, да их дело, что здесь будет. Но ведь все равно еще не скоро.
— Я знаю, знаю… — заторопилась женщина. — Мне говорили. К осени. Но мне… Но я… Знаете, я буду заведующей этими яслями, и мне… Ну, в общем, мне хочется посмотреть все заранее.
Андрей Данилович посторонился.
— Смотрите.
Мягко ступая по ковровым дорожкам, она деловито, как хозяйка, оглядывала окна, высокие потолки, плотно пригнанные половицы и даже потрогала зеленые плюшевые портьеры, будто и они со временем отойдут к яслям. Он торопливо хлопал дверями.
— Кухня вот. Столовая. Там комната сына, а дальше — тещи и дочери… Спальня… Здесь моемся.
В ванной комнате вчера топили колонку, и комната еще не остыла, была жаркой. Там банно пахло мочалкой, туалетным мылом и мятным зубным порошком. Женщина погладила гладкий бок ванны и сказала:
— Особняк… Ну, прямо особняк настоящий. Знаете, в таких домах обычно печки стоят, а у вас и батареи отопительные, и ванна. Сад рядом, — она посмотрела в маленькое окошко на деревья у дома и, помедлив, спросила: — Скажите… а где вы работаете?
— На металлургическом заводе. А что? — ответил Андрей Данилович и, вдруг поняв, куда она клонит, покраснел: — Я заместитель директора завода по быту. Понятно?
Глаза ее узко блеснули из-под век.
— Понятно.
В сердцах толкнув за ней калитку так сильно, что заходили ворота, захлопали створками о перекладину, он вернулся в дом, бросил в сенях на ларь ватник, стянул в прихожей сапоги и швырнул их в угол. Прошел в столовую, сел в кресло и сунул в рот папиросу. Пускал дым, раздувая щеки, морщился и сжимал пальцами предплечье левой руки, всегда болевшее, как только он понервничает.
Над пианино напротив висела картина. По Айвазовскому: «Девятый вал». Матросы уцепились за обломок мачты, а позади, нагоняя их, вздымается мерцающая волна с тяжелым пенным гребнем. Вот-вот захлестнет матросов… На полотне, над вздымавшейся волной, высвечивалась дыра. Сам же он, наткнувшись на угол буфета, и пробил картину, когда они переезжали сюда, в собственный дом. Теща, помнится, очень расстраивалась: картину она берегла как память о покойном муже-художнике. Ну, а так-то все были довольны новым домом. Еще бы… В старой квартире, где они ютились двумя семьями, его и брата жены, было не очень уютно: шумно, беспокойно, тесно. А жена готовилась в аспирантуру, да еще ждали они второго ребенка.