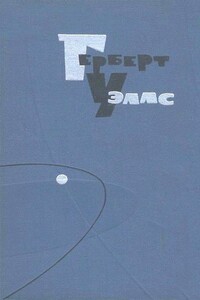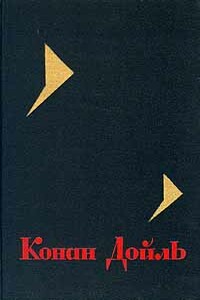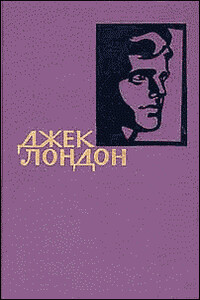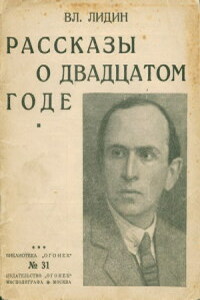Рассказы о двадцатом годе | страница 26
И мы пошли дальше, мы долго стояли у начищенной витрины гастрономического магазина; наконец, я вошёл. Свежие опилки на цветных плитках пола; язычески-белоснежный приказчик в оранжевом нимбе сыров сказал равнодушно:
— Собак нельзя вводить, гражданин.
Я спросил:
— Сколько стоит фунт масла?
Он ответил. Я спросил ещё:
— А швейцарский сыр у вас есть?
— Есть.
Тогда я сказал:
— Мне ничего не нужно. У меня совершенно нет денег. Но, может быть, вы купите у меня собаку. Если её подкормить, это будет необыкновенный сторож для магазина. У вас, наверно, найдутся обрезки. Она умна, как человек. У неё нет ни одной дурной привычки. Она деликатна, она никогда не просит есть.
Он медленно вышел из-за прилавка, он взял меня за плечо и холодно вытолкал прочь. Предлагай я пустые бутылки, ломаный кирпич, наконец, попрошайничай, — он белоснежно-язычески уронил бы мне слово, но я предлагал паршивую собаку в чесотке — разве мог он понять, что я предлагаю живую неповторимую душу, единственную во вселенной, — он холодно смотрел, мимо, толкая меня прочь. Восхитительное вдохновение, незнаемую волю — я обязан этим ему, его несмываемому белоснежному презрению. Я зашёл к сапожнику напротив, долбившему молоточком подошву; колокольчик очень приятно звякнул над дверью. Я спросил:
— Вы сапожник Муратов?
Он сказал вопросительно:
— Я.
— Так вот, не купите ли вы у меня эту собаку, — я был очаровательно развязен. — Отличный пёс, неизвестной породы, зачем вам колокольчик над дверью, она будет лаять на каждого приходящего, если только немного её подкормить.
Сапожник очень серьёзно покачал головой; он ответил почти задушевно:
— Самим бы с голоду не сдохнуть, куда ещё собаку. Да и живём мы тесно.
Он был очень искренен, он почти с сожалением смотрел на обглоданные чесоткой бока: у него были синие полевые глаза с нечеловечески трудной заботой. Тогда я сказал ещё:
— Дело, конечно, не в собаке. Мне просто нужно починить башмаки, вы принимаете работу? Я занесу их к вечеру.
Опять стукнул звоночек, опять был асфальтовый угол, электрическая рожа часов; вдоль бульвара, как фокстерьеры, неслись весенние «А». Мы зашли ещё в булочную. Пьерро гильотинировал хлеба: лицо его было в муке, в правой руке поблескивала гильотина, чёрные, белые головы летели. Я сказал:
— Я продаю эту собаку, не нужна ли она для вашей булочной, я бы отдал её очень недорого, даже в обмен на хлеб.
Гильотина застыла в воздухе. Он был слишком шумен, этот человек с трагическим лицом Пьерро, он хохотал, приседая, он стал красным сквозь муку, он лёг грудью на прилавок и мотал головой. Я сказал: