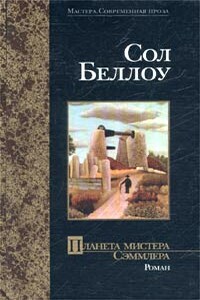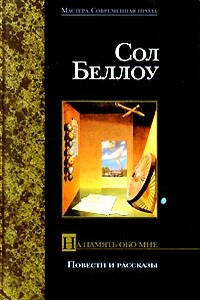Равельштейн | страница 60
Эйб приехал в Нью-Гэмпшир прямиком из Ганновера – от аэропорта он, рискуя жизнью, добирался во взятом напрокат авто. С координацией у него всегда были проблемы, поэтому с машинами Равельштейн не дружил. В автомобили он обычно садился только пассажиром, да и то нервничал. Сельская местность его тоже не манила.
Повторяя мнение Сократа из диалога «Федр», он говорил, что деревья, конечно, очень красивы, но научить ничему не могут, и настоящая беседа возможна только в городе, между людьми. А поговорить Равельштейн любил – разглагольствовать, откинув голову, думать, наставлять, изучать, спорить, отмечать ошибки, воспевать оды первоосновам, мешая греческий с подстрочным переводом и жутко запинаясь, хохоча и расцвечивая свои переложения анекдотами про евреев.
Выезжая за город, он никогда не отправлялся на прогулку по полям. Он осматривал леса и луга со стороны, однако сверх этого никакого отношения к ним иметь не хотел. Причем почему-то всегда уважал Руссо, большого любителя лесов и лугов. Руссо занимался ботаникой, а Равельштейну растения были глубоко безразличны. Он мог съесть салат, но не видел никакого смысла о нем размышлять.
Он приехал, чтобы навестить меня, и своим визитом снизошел до моей непостижимой любви к природе и уединению. Чего ради я хороню себя заживо в этом захолустье? Смело можно предположить, что он изучил мои мотивы с куда большего количества позиций, нежели я смог бы вообразить за целую вечность. Возможно, ему также было интересно взглянуть на Велу (с Розамундой мы еще не были знакомы), и он до сих пор пытался понять, почему я связался с такой женщиной. Вот это действительно хороший вопрос. Равельштейн обладал блестящим умом, упорным, трудолюбивым, в то время как я бывал умен лишь иногда, урывками. То, что он обдумывал и продумывал, имело под собой фундамент из проверенных принципов. Как бы получше выразиться?.. Если сравнить нас с птицами, он был орел, а я – что-то вроде мухоловки.
Однако Равельштейн знал, что я понимаю его принципы и мне даже не нужно их объяснять. Если он когда-то и заблуждался на мой счет, так только в одном: что я подлежу исправлению. А ведь он был учитель, понимаете, его призвание было учить. Наш народ дал миру множество учителей. Евреи испокон веков учили, учили и учили. Без преподавания еврейство невозможно в принципе. Равельштейн был учеником или, если хотите, последователем Даварра. Вероятно, вы ничего не слышали об этом грозном философе. Его почитатели считают, что он – действительно философ, в классическом понимании этого слова. Не мне судить. Философия – это тяжелый труд. Мои собственные интересы лежат в совсем другой стороне. Ограниченные умственные способности позволяют мне лишь относиться к Даварру с уважением. Равельштейн столько о нем говорил, что в конечном счете мне пришлось прочесть несколько его книг. Я должен был это сделать, чтобы глубже понять Эйба. Несколько раз я сталкивался с Даварром на улице, и мне не верилось, что этот хрупкий, словно поделенный на три человек в безобидных очках, прикрывающих весьма обидные мысли, был тем самым демоническим еретиком, которого ненавидели многие американские и даже зарубежные ученые. Равельштейна тоже ненавидели, как одного из представителей Даварра. Но он ничего не имел против всеобщей ненависти. Уж чем-чем, а малодушием Равельштейн никогда не страдал. И профессура как класс его не слишком волновала. Они не внесли сколько-нибудь ощутимого вклада в наш невыносимый век, который сейчас подходит к концу. Так я тогда думал.