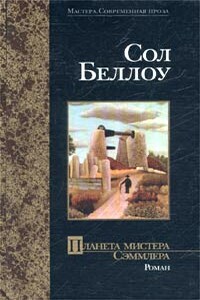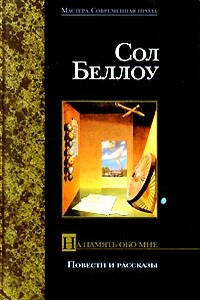Равельштейн | страница 59
Одна из ловушек либерального общества – оно позволяет нам не взрослеть. Эйб наверняка сказал бы: «Выбор за тобой. Либо ты продолжаешь воспринимать мир как ребенок, либо нет».
Итак, Равельштейн восстанавливался после очередной страшной болезни и, наверное, в десятый раз заново учился сидеть. Никки освоил управление подъемником. Когда Равельштейн немного пришел в себя, мы с Розамундой стали ходить за ними по квартире. Голова Равельштейна в инвалидном кресле заваливалась на бок. Никки катал его по квартире – предназначенной для более счастливых, более нормальных душ.
Розамунда со слезами на глазах спросила меня, станет ли он когда-нибудь самим собой.
– В смысле, справится ли он с синдромом Гийена – Барре? Я бы сказал, вероятность этого высока. В прошлом году у него был не то опоясывающий лишай, не то герпес. Ту хворь он победил.
– Но сколько раз человеческий организм может побеждать?
– Смотри, здесь ничего не изменилось, – сказал Никки Равельштейну.
Ковры и портьеры, светильники «Лалик», картины, книги и компакт-диски. Свою коллекцию старых грампластинок – обширную и тщательно отобранную – Равельштейн давно продал, чтобы идти в ногу со временем. Теперь со всех уголков света, из Лондона, Парижа, Праги и Москвы ему присылали каталоги компакт-дисков с музыкой эпохи барокко. Телефонные линии «командного поста» были отключены, работал только аппарат в спальне Никки. В этом городе с многомиллионным населением не могло быть второй такой квартиры, где всюду бы лежали бесценные старинные ковры, а на кухонной раковине шипела огромная профессиональная кофе-машина. Но Равельштейн больше не мог ею управлять. Над каминной полкой Юдифь по-прежнему держала за волосы голову Олоферна. Юдифь изображалась простой дочерью Сиона, целомудренной и невинной красавицей, хотя только что отрубила человеку голову. Как на все это смотрел Равельштейн? Почти никаких указаний на его сексуальные предпочтения в квартире не было. Никто бы не заподозрил его в давно никого не удивляющих странностях – извращенных наклонностях старомодных гомиков. Женственных мужчин с их кривляньями он не выносил.
Мне до боли ясно, о чем он думал во время этих экскурсий в инвалидном кресле по собственной квартире: «Что станется со всем этим, когда я умру? В могилу с собой ничего не заберешь. Сколько дивных вещей, которые я покупал в Японии, в Европе и Нью-Йорке, до умопомрачения советуясь с экспертами и друзьями…» Да, Равельштейн умирал. Глядя на него в инвалидном кресле, укрытого пледом, с заваленной набок головой-дыней, я не мог поверить, каким он раньше был внушительным и крупным мужчиной, и какими ничтожными в сравнении с этим были его странности, тики, идиосинкразии и недавно перенесенные недуги. Несколько лет назад Равельштейн гостил в моем загородном доме в Нью-Гэмпшире. Тогда он спросил меня, испытываю ли я собственнические чувства к этому дому из булыжника, к старым кленам и пеканам, к садам. Я ответил честно: хоть они мне и милы, все эти акры и постройки не имеют никакого отношения к моей самоидентификации. Поэтому, если однажды случится страшное и вооруженный отряд местных ополченцев ворвется в мой дом и погонит меня прочь, как грязного жида, ущерб они нанесут мне как еврею, а не как землевладельцу. И в таком случае я скорее буду волноваться за Конституцию США, нежели за собственные вложения. Комнаты, камни, растительность не стали для меня чем-то жизненно важным и необходимым. Если я все это потеряю, то просто найду другое жилище. Но если уничтожат Конституцию, правовой фундамент страны, мы вернемся к первобытному хаосу, как часто предостерегал меня Равельштейн.