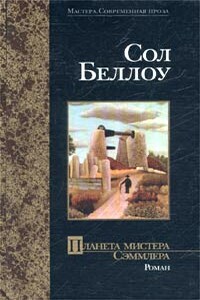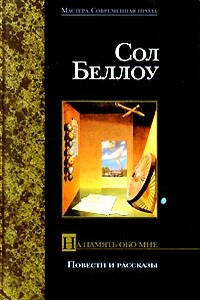Равельштейн | страница 61
Приятно вспоминать ту неделю, что Равельштейн пробыл у нас в гостях. За узкими длинными окнами тихая Новая Англия: солнце, зелень, клумбы с красно-оранжевыми маками и красно-белыми пионами.
Равельштейн дрожащими пальцами развел пластинки жалюзи, выглянул наружу, увидел цветочные бутоны – тогда как раз собирались цвести азалии, – и нашел картину весьма приятной. Однако природные драмы были для него слишком скучны. Вот человеческие – совсем другое дело.
Он спросил:
– У тебя жена всегда такая?
– Какая?
– «Какая», он спрашивает! Четырнадцать часов в сутки Вела, прямая как штык, просиживает над своими книгами и бумагами.
– Я тебя понял. Да. Она всегда занята физикой.
– Она ведь почти не двигается! Даже не дышит! Я ни разу не видел, чтобы она дышала. Как она до сих пор не задохнулась?
– Она готовит доклад. Ей скоро выступать на конференции, посвященной какому-то там исследованию.
– Наверное, она дышит урывками. Пока никто не видит. Я за ней наблюдал, знаешь ли. И ни разу не видел, чтобы она вдохнула. Разве что тайком.
Конечно, он преувеличивал. Хотя на его стороне были и некоторые факты. Более того, он и меня склонил к такой манере говорить о собственной жене. Я даже не успел задуматься, прав он или нет, просто сразу же перенял его взгляды. Равельштейн считал, что я не обязан мириться с поведением Велы. Когда мы приезжали в Нью-Гэмпшир, она запиралась в своей комнате. В доме поселялись два одиноких существа. Так выглядели наши летние дни в Нью-Гэмпшире: под одним солнцем, на одной планете жили два отдельных, одиноких человека. В молчании Вела бывала особенно прекрасна. Когда она молчала, казалось, она молится, совершает священнослужение своей красоте. Возможно, Равельштейн все это понимал.
Он приехал к нам ненадолго и практически сразу увидел, во что я ввязался. Сельские красоты его не трогали, но ради меня он поставил свою жизнь в режим ожидания. Равельштейн не любил надолго покидать городской командный пост. Ему становилось физически нехорошо в разлуке со своими информантами из Вашингтона и Парижа – со студентами, любовно взращенными учениками, единомышленниками, группой посвященных, кругом избранных – называйте как хотите.
– Так вот как ты проводишь лето? – спросил Равельштейн.
При любой возможности он ехал в Париж – на неделю, а лучше на месяц. Париж, конечно, был уже не тот, что прежде, он и сам это признавал. Однако нередко цитировал Бальзака, считавшего, что ни одно событие нельзя назвать событием, пока его не оценили и не утвердили в Париже. Тем не менее времена уже были не те. Царицы и короли давно не завозили из Парижа поэтов и философов. Когда иностранцы – тот же Равельштейн – читали французской аудитории лекции о Руссо, зал пустовал. В принципе, нельзя сказать, что гении во Франции стали не в чести. Однако Эйб Равельштейн не уважал французских интеллектуалов. Нет, дело не в дурацком антиамериканизме – на него Эйбу было плевать. Он не искал любви и обожания парижан. В целом он больше ценил их безнравственность, нежели цивилизованность.