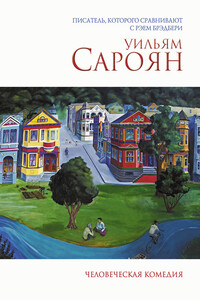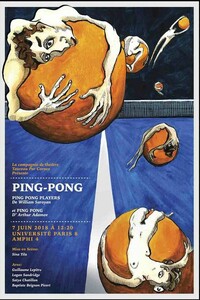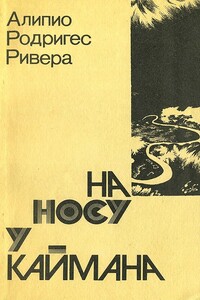Отважный юноша на летящей трапеции | страница 34
– Чепуха, – заявил отец, продолжая свой путь.
Фермер последовал за моим отцом, которого теперь счел за сумасшедшего.
– Ну хотя бы, хотя бы… – не унимался фермер, – если вы настаиваете на том, чтобы носить эту одежду, вы хотя бы не унижали себя хождением до города пешком. И пересели бы на мой велосипед.
Этот фермер был близким другом семьи моего отца и питал к нему глубокое уважение. У него были самые благие намерения, но отец был ошеломлен и уставился на фермера в ужасе и отвращении.
– Как? – воскликнул он. – Чтобы я взгромоздился на твой сумасбродный драндулет? Ты хочешь, чтобы я трясся на этом безбожном хламе? (По-армянски слово «хлам» звучало гораздо крепче и забористее.) Человек создан не для этих позорных изобретений, – сказал отец. – Человек ходит по земле не для того, чтобы усаживаться на всякий хлам, а чтобы высоко держать голову и передвигаться на своих ногах.
Сказал и был таков.
Можете не сомневаться, что я преклоняюсь перед этим человеком. И теперь, сидя один в комнате, думая о нем и выстукивая свой рассказ на машинке, я хочу показать вам – я и мой отец суть один и тот же человек.
Скоро я перейду к разговору о машинке, а куда торопиться. Я – рассказчик, а не авиатор. Я не лечу через Атлантику в кабине аэроплана со скоростью двести пятьдесят миль в час.
Сегодня понедельник, год 1933-й, и я пытаюсь собрать в этом рассказе столько вечности, сколько возможно. Когда рассказ будет прочитан, я могу оказаться вместе со своим отцом в земле, которую мы оба любили, а на поверхности этой старушки-земли после меня могут остаться сыновья, молодые парни, которых я должен попросить быть смиренными, как просил меня быть смиренным отец.
Век может пролететь за мгновение, и я делаю, что могу, дабы это мгновение осталось живым и осязаемым.
Известно, что музыканты льют слезы над потерянным или поврежденным музыкальным инструментом. Для великого скрипача его скрипка является продолжением его самого. Я – молодой человек с темными мыслями и вообще темным, мрачным, тяжелым нравом. Мне принадлежит земля, но не мир. Если меня оторвать от языка, выставить на улицу, как обыкновенное живое существо, я стану ничем, даже не тенью. Уважения ко мне будет меньше, чем к продавцу в бакалейной лавке, а достоинства во мне останется меньше, чем у швейцара в отеле «Святой Франциск», и любой таксист по сравнению со мной будет не таким безликим.
А последние шесть месяцев я оторван от сочинительства, я стал ничем, хожу, как неживой, как размытая тень в ночном кошмаре Вселенной. Просто без сознательной внятной речи, без слов, без языка я – не я. Я лишаюсь смысла и с таким же успехом мог бы оказаться мертвым и безымянным. Живому человеческому существу жить такой жизнью грешно. Это гневит Бога. Ибо означает, что за все эти годы мы никуда не пришли.