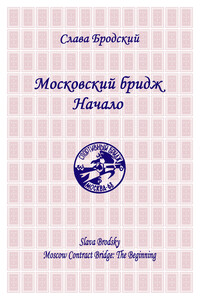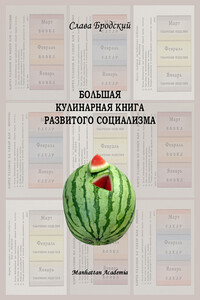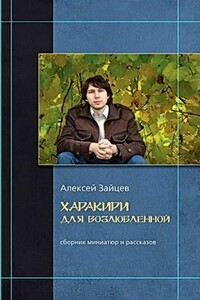Страницы Миллбурнского клуба, 2 | страница 32
Во время одного из моих выступлений в этом самом месте один из слушателей, который воспринимал все довольно придирчиво, заметил, что я стал говорить о вещах тривиальных. Все, мол, знают, что жесты, мимика и интонация могут изменить значение сказанного кардинальным образом. Я не стал возражать моему оппоненту. Потому что, в сущности, он был, конечно, прав. Я только заметил, что в рамках концепции релятивизма я бы сформулировал то, что он сказал, несколько иным образом. С помощью мимики, жестов и интонации человек пытается передать другим (скорее всего, неосознанно) свою трактовку (применительно к данному случаю) сказанных им слов. Это – первое, что я хотел бы заметить по данному поводу. Во-вторых, мимика, жесты и интонация – составляющие языка. И, следовательно, к ним относится все, что мы говорили о языке вообще. В частности, мимика, жесты и интонация не однозначны. Например, похожие жесты по-разному трактуются разными индивидуумами. А в-третьих, я, на самом-то деле, хотел только подчеркнуть, что когда мы говорим о жестах, мимике и интонации, то опять может возникнуть мысль о континууме.
Но это все – с одной стороны. С другой стороны, множество значений слов генерируется в нашем мозгу. Может ли мозг генерировать бесконечное число – это еще вопрос. То есть он (мозг) может пытаться отобразить на себя бесконечное и даже континуальное или еще более мощное множество. Однако он должен все эти отображения сохранить внутри себя. А вот тут-то и мне уже начинает казаться, что такая, с виду конечная, штука, как мозг, может сохранить только конечное множество. Поэтому, когда меня спрашивают о множестве значений слов индивидуума, я говорю, что это множество необозримо. Понимая при этом вот что. Конечно ли оно или бесконечно – это не особенно важно. Важно то, что значений слов так много, что они не поддаются простому анализу.
Может возникнуть вопрос: а толковый словарь разве не включает в себя все значения всех существующих слов? Ответ очень прост. Толковый словарь содержит обозримое число слов. Значит, он все значения не включает.
Теперь я опять хочу вернуться к налимовской модели языка. Процесс обучения Налимов видел в байесовском механизме формулы условной вероятности. Он считал ее как бы фильтром, пропускающим только те значения, которые укладываются в рамки заданного условия. Эти налимовские положения о байесовском механизме, как я их понимаю, тоже не надо было бы принимать буквально. Поэтому поначалу доклады Налимова вызвали противодействие математиков, любящих точность в высказываниях. Им не понравилось, например, что вероятностный интеграл у Василия Васильевича не был равен единице. Упрек был не по существу, и Налимов легко доказал это. К мультипликативной составляющей он добавил нормирующий множитель. Интеграл стал равен единице.