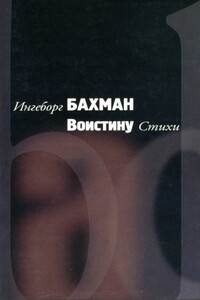Малина | страница 118
Я: У меня только одна жизнь.
Малина: Позволь мне судить.
Впереди — Черное море, а я знаю, что Дунай впадает в Черное море. Я впаду в него вместе с Дунаем. Я благополучно миновала все берега, только у самой дельты вижу какое-то плотное тело, наполовину покрытое водой, но не могу от него уклониться и дойти вброд до середины реки, поскольку река здесь слишком глубокая и широкая и в ней полно водоворотов. Это мой отец спрятался возле устья в виде гигантского крокодила с усталыми полуприкрытыми глазами, и он не пропустит меня дальше. В Ниле теперь крокодилов больше нет, последнего перевезли в Дунай. Отец иногда немного приоткрывает глаза, кажется, будто он просто лениво валяется здесь и ничего не ждет, но он, разумеется, ждет меня, он знал, что я хочу вернуться домой, что для меня это спасение. Иногда крокодил вяло открывает свою огромную пасть, там висят на зубах клочья мяса, мяса других женщин, и мне вспоминаются имена всех тех, кого он сожрал, вода покрыта старой кровью, но и свежей тоже, не знаю, насколько голоден сегодня мой отец. Вдруг я вижу маленького крокодила, лежащего рядом с ним, отец нашел теперь себе крокодила под пару. Однако маленький крокодил сверкает глазами, он совсем не вялый и, подплыв ко мне, хочет с притворным радушием поцеловать меня в правую и в левую щеку. Прежде чем он успевает это сделать, я кричу: «Ведь ты крокодил! Убирайтесь обратно к вашему крокодилу, вы же с ним заодно, ведь вы крокодилы!» Ибо я сразу узнала Мелани, которая опять лицемерно прикрывает глаза, свои человечьи глаза, и больше не сверкает ими. Отец кричит мне в ответ: «Скажи это еще раз!» Но я не говорю этого еще раз, хотя и должна сказать, поскольку он приказывает. Я могу выбрать только одно из двух: быть сожранной крокодилом или заплыть еще дальше в реку, туда, где она глубже всего. У самого Черного моря я исчезла в пасти моего отца. Однако в Черное море влились три капли моей крови, три последние капли крови.
Отец входит ко мне в комнату в пижамных брюках, он насвистывает и поет, я его ненавижу, не могу на него смотреть, и принимаюсь возиться со своим чемоданом. «Пожалуйста, надень что-нибудь, — говорю я, — надень что-нибудь другое!» Ведь он в пижаме, которую я подарила ему на день рождения, он надел ее намеренно, а мне хочется ее с него стянуть, но вдруг мне приходит в голову одна мысль, и я роняю, как бы невзначай: «Ах, это всего лишь ты!» Я начинаю танцевать, танцую вальс совсем одна, а отец смотрит на меня с некоторым изумлением, потому что на кровати лежит его маленький крокодил, одетый в бархат и шелк, он начинает составлять завещание в пользу Бархата и Шелка, пишет его на большом листе бумаги и говорит: «Ты ничего не получишь, слышишь, за то, что танцуешь!» Я действительно танцую, ти-там, та-там, танцую, переходя из комнаты в комнату, и начинаю кружиться на ковре, который он не может вытащить у меня из-под ног, — это ковер из «Войны и мира». Отец зовет мою Лину: «Да вытащите же из-под нее этот ковер!» Но у Лины выходной день, и я смеюсь, танцуя, и вдруг зову: «Иван!» Это наша с ним музыка, этот вальс — для Ивана, снова и снова для Ивана, это спасение, ибо мой отец никогда не слышал имени Ивана, никогда не видел, как я танцую, он уже не знает, что ему делать, вытащить ковер из-под меня нельзя, остановить меня в буйном вихре танца нельзя, я зову Ивана, но приходить ему не надо, ему не надо меня удерживать: голосом, какого еще никогда ни у кого не было, звездным, сидерическим голосом я творю имя Ивана и его вездесущность.