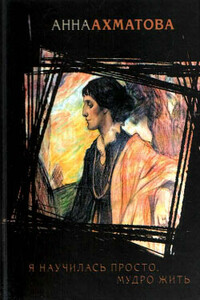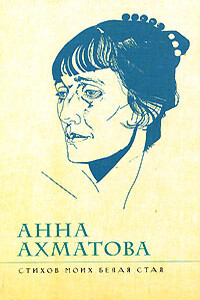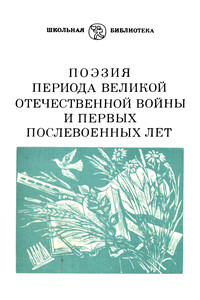Лирика 30-х годов | страница 13
Так почти везде у Павла Васильева. «Натура», плотность и весомость поэтического образа не заслоняют нравственный идеал, нравственную оценку, но с огромной силой подчеркивают авторскую позицию, пишет ли он о степных просторах, о любимой или о схватке социальных сил. Васильев не любит расплывчатые, неуловимые поэтические образы, отвлеченные пейзажи, обтекаемых героев. «Люди у Васильева всякие, — справедливо замечает Сергей Залыгин, — диковатые, жадные и алчные, жестокие и свирепые, благородные и увлеченные, нет только среди них людей пустячных, безликих, двойных и тройных. Люди, у которых даже внешность полностью соответствует их внутреннему складу»[8]. Это относится и к эпосу, и к лирике поэта.
Лирический пафос стихов П. Васильева определяется не только повышенной, часто обнаженной предметностью образов, но и не менее обостренной социальностью. Мироощущение и миропонимание поэта, при всей их порой противоречивости, неотделимы и обнаруживаются в его произведениях всегда определенно, резко, энергично.
П. Васильев был буквально полонен грандиозностью масштабов и интенсивностью энергии, с какими страна переделывала свой облик. Ему по душе была наступательная сила нови. Особенно увлеченно писал Васильев о преобразовании природы, строительстве городов, о мужественных и сильных людях («Турксиб», «Путь в страну», «Павлодар», «Повествование о реке Кульдже», «К портрету Р.» и др.). Прошлое и настоящее в лирике П. Васильева всегда в борении — пишет ли он об открытых схватках социальных сил или о внутренних переживаниях героя. Это придает особую напряженность его пейзажной и любовной лирике («Анастасия», «Сердце», «Расставанье» и др.).
Рядом с П. Васильевым лирический голос Н. Рыленкова или Д. Кедрина кажется слишком тихим и скромным. Их пейзажная и бытовая лирика чаще всего лишена резких социальных примет. Однако характер раздумий над обновляющейся жизнью, исторических аналогий, устремленность в будущее делает их поэзию очень современной и актуальной. Великолепен графический рисунок их стиха.
Большое место в лирике 30-х годов заняла тема революционного прошлого. Она была естественной не только потому, что многие поэты были участниками революции и гражданской войны, но и потому, что для людей 30-х годов она остро осознавалась как тема, соединяющая вчерашний день с современностью и будущим страны. Пожалуй, наиболее последовательно и успешно решал эту проблему А. Сурков. Через все стихотворения и песни поэта этих лет проходит образ его современника — героя Октября и гражданской войны. Поэт стремится прежде всего осмыслить исторический путь поколения, к которому принадлежал он сам, т. е. того поколения, которое в боях отстаивало завоевания Октября. Поэтому даже тогда, когда в его поэзию начинает все настойчивее входить новая, современная тематика (сб. «Родина мужественных»), Сурков остается верен главному своему герою, который продолжает хранить в сердце «отзвуки бури». Многие стихотворения связаны с воспоминаниями о гражданской войне, а многие герои оказываются вчерашними участниками революционных боев («Над картой родины», «Утро на заставе» и др.). Образ современника-патриота, труженика как бы сливается с образом солдата «при большой революции». Своеобразие своего главного героя тех лет хорошо передал поэт в стихах: