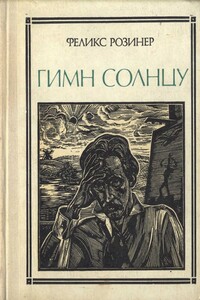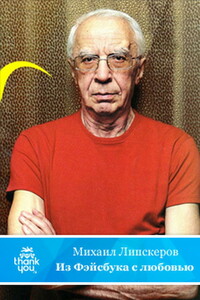Лиловый дым | страница 11
Среди ночи они все ушли, и Владас тоже, — думали они, что свадьбу отыграли, но была то кровавая свадьба, и длилась она до утра и продолжалась утром, и весь город вышел встречать процессию, много-много подвод, целый свадебный поезд, и в каждой подводе — жених, а невеста у всех — одна-одинешенька, и стара она, беззуба была и костлява, и улыбка ее под убранным флердоранжем челом была безобразна, но всех самых лучших парней она прибрала, уложила в брачные постели — на доски, покрытые сеном, и как святою водой, окропила каждого алою кровью. На улицах стоял стон и вопль — женщины кидались поперек телег, узнавая сыновей, мужей и братьев, и бились в криках и проклятьях, солдаты их оттаскивали и пытались, выставляя винтовки наперевес, не допускать их к убитым, но таков-то и был жестокий расчет устроителей страшной процессии — выявлять по уликам безумного громкого горя семьи, родственников и друзей перестрелянных ночью зеленых. Яня рвалась со двора, чтоб, как все, опознать своего, мы с Даугелой висели у нее на руках, как псы на волчице, но ее стало рвать, и нам удалось увести ее в дом. Даугела ушел и через час вернулся мрачный. Он приоткрыл дверь к Яне и крикнул из коридора: «Эй, ты там, утрись! — ушел твой, отстрелялся, говорят, еще с одним вместе. До другого раза…» Он выругался, добавил «о, Езус-Мария!» и положил на себя ровный крест. Мне он за водкой сказал: «Нам обоим капут. Владас, может, и пожалеет меня, я ему тесть, я дед ребенка. Так ведь оперативники, если знают про свадьбу, прикончат. А наши тебя убьют. Им надо пролить чью-то кровь в отместку. Кто-то их предал. Они решат, что ты. Жаль, что упустили его. Вздохнули бы наконец…» Похоже, Даугела и не задумывался над судьбой своей дочери, о ее страданиях и страсти, — так велика была его ненависть к Владасу и так был велик его страх перед ним.
Две недели стояла в Укшчяй тишина. Люди ждали чего-то. Шел конец августа, и начало занятий в школе уже приближалось, но обо мне как будто забыли. В Укшчяй замерло все. Но двадцать восьмого, дождливым утром, мимо нас к другому краю городка прошли крытые грузовики. Скоро донеслись оттуда вести: жителей вывозят — семьями, со скарбом, который можно унести с собой и который разрешается собрать в течение часа. Под тем же мерно льющимся дождем промокшие фургоны стали проезжать обратно, в сторону Шяуляя. Даугела ходил то и дело к соседям за новостями, возвращался и вновь уходил. «К вечеру будут у нас», — сказал он, рассчитав по времени ход проводившейся операции. Брали тех, кого, вроде бы, подозревали в связях с зелеными, но на двенадцать убитых мужчин уже набралось едва ль не за сотню семей, — и дураку было видно, что, как и четыре года назад, очищали город, оставляя запуганных, затаившихся, тех, кто готов был служить безоглядно советским властям. Даугела заранее стал собираться. Яню решил он отправить к родственнице — старухе, жившей на отшибе в какой-то полу развалившейся хибаре. Дочь и отец, склонив головы, произнесли молитву, расцеловались, и Яня ушла. Назавтра она собиралась уехать на хутор к старшей сестре. Даугела пил водку, и когда постучали в дверь, уже не слишком-то соображал. Вошли четверо — трое в форме МВД и с ними начальник милиции. Этот сразу махнул им рукой на меня: