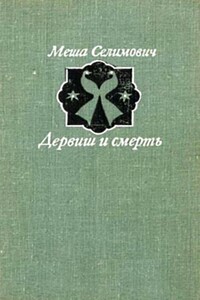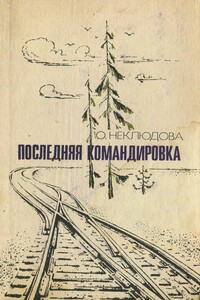Избранное | страница 65
Я мог повести наш разговор разными путями, если б не волновался. Спокойно: я пришел не для того, чтобы защищать, а для того, чтобы осведомиться. Широко: он виноват, раз он арестован, но не могу ли я узнать, что он совершил? С чувством умеренной оскорбленности: арестован, ладно, но следовало бы и мне об этом сообщить. Надо было выработать какой-то план, придумать какое-то начало, проявить больше твердости, а я избрал худший вариант, даже не избрал, он получился сам собой.
— Я хотел спросить о брате,— запинаясь, неуверенно проговорил я, начав совсем не так, как следовало начинать, сразу открыв свое слабое место, не успев создать благоприятное впечатление и подготовить благоприятный прием. Его тяжелое непроснувшееся лицо заставило меня выложить все, как есть, все сразу, чтоб он узнал меня, чтоб заметил.
— О брате? О каком брате?
В его глухом вопросе, в безжизненном голосе, в его удивлении — как это я мог предположить, будто он знает о столь незначительном деле,— я почувствовал, что брат и я уменьшились до размеров пылинки.
Да простят мне все благородные люди, более храбрые, чем я, все добрые люди, которым не довелось пережить искушение позабыть о собственной гордости, но я должен сказать — и ничто не помогло бы мне, если б я скрыл правду от себя,— меня не оскорбила его намеренная грубость и то ужасное расстояние, которое он установил между нами. Меня это просто испугало, ибо все было неожиданно, я ощутил тревогу и опасность, брат не явился возможной формой контакта между нами, надо было вызвать его к жизни и поскорее определить степень вины. Но что мог я сказать, чтоб не повредить брату и не оскорбить муселима?
Я сказал, что сожалею о случившемся, горе сразило меня, подобно кончине близкого человека, судьба не уберегла меня от несчастья видеть родного брата там, куда уводят грешников и врагов, люди смотрят на меня, не скрывая удивления, словно и на мне лежит доля его вины, на мне, долгие годы свято служившем господу и вере. И, не успев закончить, я знал, как это мерзко, я совершал предательство, но слова текли легко и искренне, жалоба на судьбу звучала сама собой, до тех пор пока сетования мои не набрали силу и громкость, и тогда этот сладкий плач по самому себе стал мне противен из-за собственной трусости, истинную причину которой я не понимал, из-за собственного эгоизма, подавившего все иные мысли. Нет, что-то еще звучало во мне: как все скверно, неужели ты пришел затем, чтоб защищать себя, но от чего, опасности подвергается брат, позже ты будешь стыдиться этого, ты ухудшишь его положение, замолчи, уйди, скажи и уйди, скажи и останься, взгляни ему в глаза, он только пугает тебя ликом идола, подави беспричинный страх, тебе нечего бояться, не позорь себя причитаниями и перед ним, и перед самим собой, скажи то, что ты должен сказать.