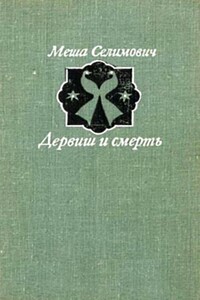Избранное | страница 66
И я сказал. Брат, как я слышал, совершил нечто, что, может быть, не подобало, я не знаю, но не верю, что это серьезно, поэтому я прошу муселима вмешаться, дабы узнику не приписывали того, чего он не совершал.
Мало я сказал, недостаточно храбро и недостаточно благородно, но это было все, что я мог. Тяжкая усталость одолевала меня.
Его лицо было непроницаемо: ни гнева, ни понимания я не обнаружил на нем, его губы готовы были произнести слова и осуждения и милосердия. Позже я смутно припоминал, что в ту минуту подумал, в каком ужасном положении находится любой проситель: в силу необходимости он ничтожен, мелок, придавлен чужой ступней, он виновен, унижен, во власти чужого каприза, он жаждет непредвиденной доброжелательности, он подвластен чужой силе, от него ничего не зависит, он не осмеливается выразить ни страха, ни ненависти — это может его погубить. Под тусклым взглядом, который почти не различал меня, я не надеялся услышать доброго слова или снискать милосердия, я стремился поскорее уйти, пусть все решится по воле аллаха.
В конце концов муселим заговорил, а мне было уже все равно, заговорил столь же невыразительно, как и молчал, ибо за многие годы привык быть непроницаемым и презрительным, но мне и это стало безразлично. Во мне росло отвращение.
— Брат, говоришь? Арестован?
Я взглянул в окно: пожар потушили, лишь дым, вялый, черный дым, тянулся над чаршией. Жаль, что пламя не уничтожило все.
— Знаешь ли ты, почему он арестован?
— Я пришел узнать у тебя.
— Так, ты не знаешь, почему он арестован. И приходишь просить независимо от того, что он совершил.
— Я не пришел просить.
— Хочешь ли ты его обвинить?
— Нет.
— Можешь ли ты назвать свидетеля за или против него? Назвать других виновников? Или соучастников?
— Не могу.
— Чего ты тогда хочешь?
Он говорил лениво, делая паузы, отворачивал голову, словно был обижен, словно ему было мучительно, что приходится объяснять такие очевидные вещи и что он вынужден терять время с человеком, лишенным разума.
Меня охватил стыд. Из-за страха, из-за его презрения, из-за его права на грубость, из-за его скуки, которую он не скрывал, из-за того, что он унизил меня, что он разговаривал со мной так, будто я носильщик, подмастерье, закоренелый злодей. Я привык слушать, не возражать, гнуть спину, даже то, что я спрашивал о брате, показалось мне почти преступлением, однако наглость этого жестокого человека, а может быть еще больше, его плебейская неучтивость подавили во мне все мои давние привычки. Я чувствовал, что зеленею от ненависти, понимая при этом, как она бесполезна. Ему безразлично, мне — нет, он к этому и стремится, он полон, даже не то что полон, он извергает отвращение к людям. Не знаю, почему он стремится создавать врагов, меня это не касается, но как он смеет так вести себя по отношению ко мне? Меня еще тешила мысль о значении ордена, к которому я принадлежал, о важности моего звания.