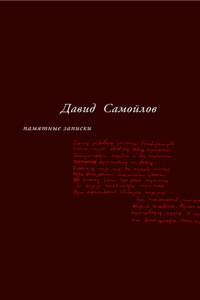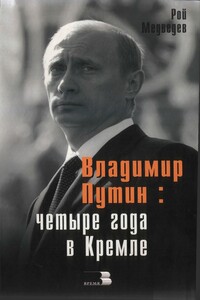Тем, кто на том берегу реки | страница 98
Твой Иосиф».
Он напрасно надеялся, что этим письмом закрыл проблему.
6 июня 1991 года он писал мне из Нью-Йорка:
«Милый мой Яков, придется, видать, письмо писать. Насчет трехтомника; насчет перечисления башлей; насчет всяких последующих изданий и гонораров за оные, насчет гонораров за уже вышедшее. Все это чистое безумие и торжество не столько справедливости, сколько демографии. От полного озверения предлагаю следующее:
I) Пушкинский Фонд[18] становится моим как бы душеприказчиком. Т. e. не ты лично (что предпочтительнее, но наваливать на тебя весь этот кошмар я не могу), но организация».
И дальше он весьма подробно расписывает вполне разумный механизм регуляции.
«Что ты думаешь по поводу вышеизложенного? Я готов подписать и заверить всеми возможными здесь семью печатями любой составленный тобой в этом духе документ, но – один. Яков, я не в состоянии все время бегать туда-сюда со всеми этими доверенностями, распоряжениями, справками и пp.
…Поверь мне, я не капризничаю. Мир вознамерился превратить человека в своего собственного бюрократа: это – этап эволюции, и не умеющий приспособиться, естественно, погибает. Пишу тебе поэтому довольно буквально из-под глыб, даром что бумажных…
Обнимаю тебя и Татку и умоляю простить за бредовый тон и за такое же содержание сего письма. Как говорил Гитлер, времена индивидуального счастья прошли.
Целую тебя,
твой Иосиф».
Постепенно все урегулировалось. Вышел в издательстве «Пушкинского фонда» не трехтомник, как планировалось сперва, а четырехтомник, составленный Геннадием Федоровичем Комаровым и полностью согласованный с автором, несмотря на его сопротивление. Этим была заложена основа для серьезного изучения, сделанного Иосифом за добрые тридцать лет…
Разумеется, в связи с обилием публикаций встал роковой вопрос, которым настойчиво занималась наша публика с конца восьмидесятых – вопрос о его приезде в родной город.
Мы несколько раз говорили с ним о возможности приезда – и в его деревенском доме в Массачусетсе, и по телефону. Из всех этих – не всегда внятных – разговоров я, тем не менее, понял главное: он смертельно боялся попасть в ложное положение, которое отравило бы драгоценные для него воспоминания о своем городе. Он просто не знал, как вести себя, приехав на родину. Однажды он четко сказал: «Я не могу вернуться в свой город как знаменитость!» Он боялся ажиотажа, приставаний, клубления вокруг случайных людей из прошлого, искренне его любящих, но теперь уже лишних… Он всегда был чрезвычайно чуток ко всякой фальши, и возможная неестественность своего поведения в Ленинграде его ужасала.