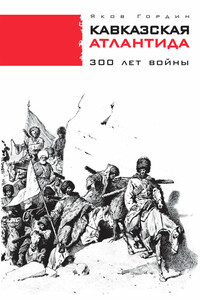Тем, кто на том берегу реки | страница 97
И дальше, после значительного по объему текста, посвященного пластинке, которую выпускал Михаил Козаков, Иосиф четко формулирует – не в первый раз – свое представление об отношениях поэта и читателя.
«Моя единственная забота, чтоб не было накладок, т. е. дублирования.
Обидно, конечно, что все это как-то рассыпается по журналам: “Зимнюю Эклогу” надо было печатать рядом с “Летней”, да и остальные стишки уж больно разнесены во времени. Мне не жаль себя, своего “доброго имени”; просто читатель бы больше выгадал: ради него, в конечном счете, стараешься – чтоб больше был на человека похож. А то, когда все это по крохам дробится, он просто головой покивает: ну да, мол, отметился, “читал”. Поверь, я не переоцениваю себя и эффективность мной сочиненного: я просто считаю, что читателя надо ставить в зависимость от автора (любого), надо давать ему большие куски этого добра, а не кормить его птифурами. Птифуры эти на руку сам знаешь, кому; так всегда было, еще до прихода красных: это-то и называется журнальной политикой: чтоб человечка развлечь, не оставить в рамках существующей реальности. Стишок же от реальности этой должен и может избавить – особенно, когда он длинный и не один. И особенно сейчас это важно, в эпоху настоя и брожения».
И дальше идет принципиально важный текст, который я цитирую значительно позже: «Но нынешнее дело – дело нашего поколения…» И т. д.
И снова нервное беспокойство относительно грядущих публикаций в России.
«Пойми меня правильно: у меня никогда не было этого пунктика – печататься! Но уж коли они за это берутся, то меня не демонстрация их гражданской доблести заботит, а что в голове читателя происходит. Это-первое и, возможно, последнее письмо на эту тему, Яков; и не письмо даже, а кратковременный выход из прострации, вызываемый творящимися с моими худ. произведениями в возлюбленном отечестве. Больше я к этому не вернусь; чувство апатии и даже некоторой брезгливости, порождаемое элементами истерики – этой оборотной стороны давешней трусости – связанной с моими делами – чувство это не из приятных. Мутит».
Его можно понять. И в самом деле, ажиотаж, устроенный людьми, которые в тяжкие для него времена думать о нем не думали, теперь не прочь были обозначить свою «гражданскую доблесть», которая опасности не представляла, конечно же, его раздражал. Но апатия апатией, однако ему хотелось бы ввести все это в какие-то разумные рамки.
«Прости, что донимаю тебя этими просьбами и рассуждениями. Но география – вещь серьезная. И теперь для меня это больше география, чем политика. Я догадываюсь, что у тебя своих хлопот выше головы, как у любого человека в нашем возрасте. Но Женюра, боюсь, слишком взбалмошен, а больше у меня ни с кем отношений в лит. мире нет. Хотя мы знаем друг друга довольно давно и, казалось бы, нет нужды говорить друг другу приятные слова – тем не менее, спасибо тебе за “Неву”. Тебе, Сашеньке и Иоффе. ‹Оговорка – имелся в виду Саня Лурье. –