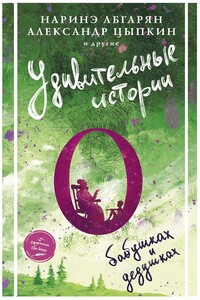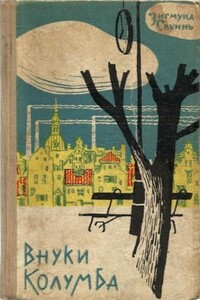Повести писателей Латвии | страница 43
— И все-таки ты хороший.
— Плохой. Ты просто еще не знаешь, каким я могу быть плохим. Только никак не понять, кто я: бе-фау или ге-фау.
— Я не знаю немецкого. В школе у нас был английский.
— Этим словам тебя не научат ни в одной школе, если только не называть школой жизнь. У фрицев бе-фау — это Berufsverbrecher, то есть преступник по велению сердца, а ге-фау — преступник от рождения, преступник уже в колыбели. Понимаешь, другие дети рождаются для счастья, радости, любви, работы, а ге-фау — для преступлений. И мне не однажды говорили, что, согласно Ломброзо…
Но Дзидра не позволила мне закончить. Она обняла меня, закрыла рот долгим поцелуем и зашептала:
— Милый, хороший… Не ври так умно, ври попроще, чтобы можно было хоть немножко понять… Милый, хороший! Для меня ты всегда будешь хорошим, потому что ты единственный, кто вошел к нам и что-то дал, ничего не потребовав взамен…
— В долг! — воскликнул я, едва не обидевшись.
— Разве мать всегда отдавала тебе долги? За туфли — нет… А конфеты, которые мать не позволила взять, ты украдкой сунул мне в карман передника, и я тогда убежала за угол, в дровяной сарайчик… Их ты тоже давал в долг?
Таких мелочей я не помнил. Может, и дал девчонке конфету-другую; поэтому я промолчал, а Дзидра, высвободившись из моих рук, хмуро сказала:
— А те, из-за кого она умерла, для нее даже лекарства пожалели.
— Погоди, не понимаю. Отчего же умерла твоя мать? Ты говорила, что не от той истории.
— Это случилось осенью. Да, осенью того же года… Она у одного хозяина вытаскивала лен из мочила. Вода была уже холодная. Пришла домой, сготовила мне поесть, сама ни кусочка не проглотила, легла в постель, а когда я собралась спать, она уже ни слова выговорить не могла. Жаром от нее несло, как от печки. Я в темноте побежала к тем самым хозяевам, для которых она лен… А они меня даже в дом не впустили, разговаривали через цепочку и еще издевались:
— Если у нее жар, дай напиться горячего молока со свежим коровьим навозом, у вас ведь есть корова! А от кашля — написай в кружку и дай, пусть выпьет…
И захлопнули дверь. Я давай стучать снова.
— Да уймешься ли ты? Не то собак спустим!
Я вернулась домой, матери чуть полегчало, я дала ей теплого чаю, она стала подсчитывать, кто сколько остался ей должен за работу, вспомнила тебя, что тебе одному она должна, а потом стала кричать, чтобы я прогнала жеребцов, чтобы потушила костер — в общем, бредила. Я сидела рядом с ней и не плакала, у меня не осталось больше слез. Собиралась просидеть так всю ночь, а проснулась на рассвете от стука в дверь. У хозяев все-таки заговорила совесть, и они пришли поглядеть на больную. А она уже закоченела. Обмыли ее, похоронили, а я все не плакала.