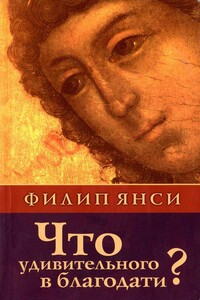Избранные произведения | страница 22
Что способствовало развитию у Вайгеля столь радикальных взглядов? «Виной» всему был, как представляется, бескомпромиссный, стремящийся додумать всё до самого предела философский ум Вайгеля. Он последовательно довёл интенции Лютера до безжалостного логического конца. Лютер всё же был очень «традиционный» мыслитель - и, несомненно, он принимал как данность, что Церкви как таковой всегда присуща антиномичность, двойственность, о которой мы уже говорили выше: она одновременно и Тело Христово, и некая земная институция, не избегающая падшести. Эта падшесть проявляется, в частности, в том, что Карл Барт в своей «Церковной догматике» называл «проклятым католическим "и"» - когда в сочетаниях «Иисус и Мария», «Писание и Предание», «Христос и Церковь» etc. вторая часть пары берёт верх над первой и по сути делает её лишней. Но так или иначе, пока мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5, 7) и видим всё как бы сквозь тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13, 12), антиномия присуща Церкви. "И" остаётся хотя бы в таких контра позициях, как «Бог и человек», «внешнее и внутреннее», etc. Лютер это чувствовал и сам принцип антиномии «не трогал», хотя оспаривал частности («Писание и Предание» и проч.) Но для логического ума Вайгеля любая антиномичность, любое "и" было невыносимо. Он буквально воспринял принцип Лютера «Sola» - «только». Только вера, только внутреннее, и, в конце концов, - только Бог[31]. В других произведениях Вайгель «сдерживается»; в трактате «О жизни Христовой» это проявляется очень ярко - скажем, давая себе волю, он доходит до утверждения о совершенной «опциональное™» Таинств (гл. 47).
Однако здесь важно отметить, что при всём том Вайгель, иначе, чем Лютер, но остаётся церковным мыслителем. Цшопауский пастор, несомненно, симпатизировал идеям спиритуалистов, «мечтателей» и «сакраментариев» и иногда (в частности, и в данной книге) сильно склонялся на их сторону, но всё же никогда не доходил до полного отрицания внешнего Слова Божия и Таинств. Спиритуализм Вайгеля - особый: синтетический, вобравший в себя как традицию, так и влияния своего времени. Его мировоззрение продолжает корениться в мистике «Немецкой теологии» и
раннего Лютера[32], к которой присоединяется ранее не звучавшее у Вайгеля обращение к «внутреннему слову», расширение понятия «оправдания» до включения в него живого нового рождения свыше и «замена» падшей телесности Адама на небесную телесность Христа. Такой «синтетический спиритуализм» позволяет Вайгелю вывести замечательную и очень верную формулу церковной сочетаемости внешнего и внутреннего: «внутреннее слово»