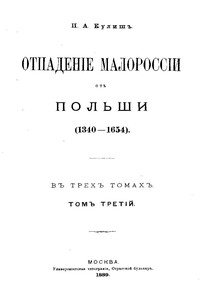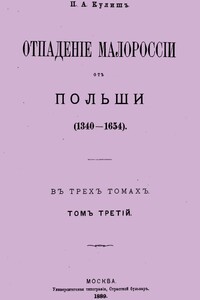Отпадение Малороссии от Польши. Т. 1 | страница 42
свою воинственность песнопений, qnae dumaж russi vocant *), в то же самое время
говорит о козаках, как о племени инородном. В качестве посла
*) Которые Русские называют думами.
_,^ТПАДЕ[ПР, МАЛОРОССИИ ОТ ИТОЛЫИШ.
47
к мусульмански^ государям, Сарницкий проезжал не раз места козацких подвигав,
дивился козацкой отваге, слушал козацкие рассказы об опасностях добычного
промысла па торговом турецком тракте, и однакож написал озадачившие позднейших
читателей слова, что козаки исповедуют веру турецкую. Все ото вместе заставляет
предполагать, что только сильный прилив русского элемента в притоны первобытных
днепровских Козаков переродил их в русских людей, подобно тому, как исключительно
немецкия в начале общины таких городов, как Познань, Гнезяо и Браков, переродились
в общины польские.
Относительно колонизации малорусских пустынь, козаки играли роль,
напоминающую тех поднепровских номадов, которых князья Варягоруссы — то
прогоняли в глубину безлюдных степей, то вербовали в свои ополчения. Подобно
Торкам и Берендеям, Черным Клобукам до-татарского периода русской истории,
днепровские козаки иногда составляли гарнизоны в королевских пограничных городах,
а иногда нанимались в королевские ополчения только на время, за одно с козаками
нагайскими и белогородскими. Самые пределы первоначального их кочевья между
рекой Росью и днепровскими порогами совпадают с местами, на которых история
находит подобных им номадов до Батыева нашествия. В эти пределы манили к себе
козаки все однородное с ними по задаткам жизни со всего Польско-Литовского края, и
отсюда производили свои операции, которые наделали говора в летописных сказаниях,
но которых основою была задача дикая—существовать продуктами чужого труда, не
заботясь об участи трудящихся.
Пограничные города, всасывавшие в себя все своенравное из сел и дававшие
пристанище каждому бродяге из нужды в рабочих руках, извергали из себя, в свою
очередь, непригодную для цеховой практики голоту. Эта голота была приневоливаема к
правилному труду в цеховых заведениях только голодом да холодом; но когда ее
согревало весеннее солнышко, она норовила бежать из общества, сравнительно
благоустроенного, и предавалась, до новой зимы и беды, своим независимым
промыслам.
Устройство козацкой общины, с её первоначальным делением на сотни и десятки,
было не чтб иное, как подражание общине мещанской, приспособленное к жизни
кочевой и добычной. Даже козацкий самосуд был повторением самосуда цехового, или