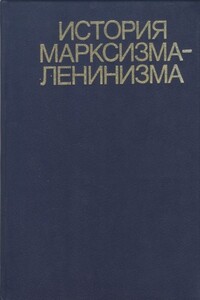Русская философия смерти | страница 5
А. Н. Радищев, как и М. М. Щербатов, не разделяют скептического взгляда европейских просветителей на «тайны гроба». Механистические картины мира, в которых смерть – всего лишь причина в ряду причин («печальная естественная необходимость», по слову автора «Человека-машины»>8), окрепнут в эпоху позитивизма и плоского семинарского материализма. Отечественная философия тяготеет к организмической онтологии. На русской почве интерес к теме смерти подпитывался разнородными тенденциями. С одной стороны, на Руси хорошо помнится святоотеческий тезис Иоанна Дамаскина: «Философия есть помышление о смерти» [Диалектика, 3, po 94, 534 B; ср. у Платона: «Истинные философы много думают о смерти» (Федон, 67е)]. С другой стороны, любопытство к смерти мотивировано мистической литературой в масонском обиходе. Благодаря лекциям И. Г. Шварца, издательским инициативам Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, их сомышленников и учеников тексты Я. Бёме, Э. Сведенборга, К. Эккартсгаузена и И. Арндта вошли в круг классических штудий отечественной танатологии.
Масонская транскрипция проблемы смерти была этической по преимуществу. Это была первая попытка осознать смерть как проблему личности (при отсутствии личностных приоритетов в социальной психологии эпохи). Масонам удалось создать концепцию поступка, в свете которой безнадежная необратимость времени резко повысила в ранге моральную ответственность «я» в мире других и всех «я» пред Богом. Любовь к ближнему странным образом оказалась сублимантом страха смерти, а созерцание тленных футляров изображающей смерти принудило к идее нравственного самосовершенствования.
Этическая утопия масонов призвала своих адептов к обретению внеконфессиональной святости. На бытовом фоне XVIII в., когда люди избавлялись от мыслей о быстротекущем времени несколько иным, мягко говоря, образом, масонские этические программы выглядели еще экзотичнее, чем чудачества московских вельмож или выходки петербургского барина в усадьбе. В пестрой картине типов поведения эпохи можно назвать только одну специфично русскую форму самоотверженного (и даже экстремального в своем надчеловеческом героизме) вызова смерти и смертности: юродство. В трагической фигуре «Божьего шута» (так назовет юродивого Л. П. Карсавин в своей «Поэме о Смерти», 1932) на Руси состоялась первая смерть изображающей смерти: она поражена в правах онтологической изобразительности, потому что ее не замечают. Юродивый презрел свое тело и тем «выпал» из сплошь детерминированного смертью натурального ландшафта смертного мира. Иммортализм юродивого сознания составит отдельный сюжет в истории русской культуры; позже в него войдет множество русских людей: от П. Я. Чаадаева, Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева до «русских францисканцев», обереутов и А. П. Платонова включительно.