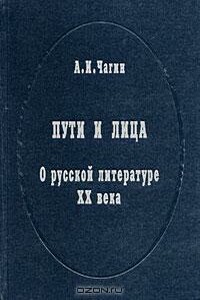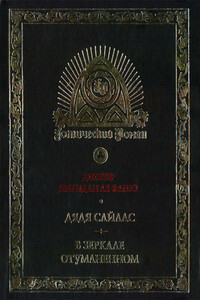Данте в русской культуре | страница 75
Естественно, Герцен не пытался изложить дантовские терцины прозой, а искал стиль интимных признаний, который был бы созвучен наиболее дорогим ему мотивам поэмы, ибо они полнее всего соответствовали его любовным переживаниям. Так складывалась полуромантическая-полумистическая фразеология писем: «Я падший ангел – но всему падшему обещано искупление; ты – путь, чрез который я должен подняться» [XXI, 118], «…ты материальная, земная по телу, преобразилась в глазах моих в ангела невещественного, святого» [XXI, 134]. В результате рождалась неповторимая эпистолярная проза, психологические особенности которой ясно осознавались ее автором. «Руссо был великий человек, но он, должно быть, понятия не имел о любви, – несколько самоуверенно заявлял Герцен. – Эти письма и наши письма, – продолжал рассуждать он, сравнивая с „Новой Элоизой“ собственный роман в письмах, – тут все расстояние между пресмыкающейся по земле травою и пальмой, которая всеми листами смотрит в небо» [XXI, 148].
Известно, что и у молодого Герцена были увлечения «в духе Руссо». Но «земное» и «небесное» принадлежали разным сферам его души, и в письмах H. A. Захарьиной, с их своеобразной заданностью психологического содержания, созидался идеальный тип интимного поведения, который, однако, не мог выдержать испытаний повседневной жизнью и стал залогом драматической остроты грядущих разуверений. В дни разъединения и отчужденности Герцен трепетал и изнывал от тоски и муки: «Страшно, земля под ногами колеблется. Нет точки, на которую можно опереться. Амои мечты…» [II, 278]. И все же за таким порывом отчаяния следовала совсем не похожая на прежнюю экзальтацию и в то же время немыслимая без возвышенных чувств прошлых дней вспышка преданности уже не избранной идее любви, а избранному человеку: «У меня не осталось ничего святого, одна она – она и бог, и бессмертье, и искупленье, и перед ней я святотатец» [II, 279].
Школа обожания, которую прошел молодой Герцен у Данте, осталась позади, ее верования были развеяны холодным дыханием жизни, и все-таки без ее уже изжитых канонов были бы невозможны ни очищающие муки, ни подлинные прозрения любви.