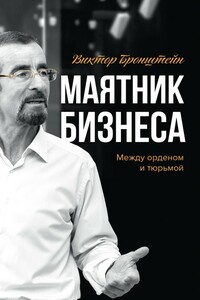Лабиринты судьбы. Между душой и бизнесом | страница 67
Но не только и не столько уютным ретро-ресторанчиком запомнился мне послепраздничный завтрак, плавно перешедший в обед. В память буквально врезалась тёплая беседа под грибки и солёные огурчики, которые в то позднее и затянувшееся утро имели звание не какой-то там рядовой еды, а доброй и душевной, как и сама беседа, закуски. А познакомился и разговорился я в новосибирском леске с весьма интересным и, как выяснилось, широко известным иркутянином – директором Театра народной драмы Михаилом Корневым. Он был однокурсником юбиляра и его жены по факультету журналистики. После третьей-четвёртой рюмочки нашей культурологической воскресной беседы я вдруг вспомнил, что, кажется, знакомился с ним лет двадцать тому назад. В далёкую заводскую пору, когда я был начальником цеха, но не был ни театралом, ни коллекционером, ни поэтом, Геннадию удалось затащить меня в педагогический институт на студенческую самодеятельную постановку «Утиной охоты» Вампилова. Хорошо запомнившуюся мне главную роль – Зилова – ярко и убедительно играл, кажется, не кто иной, как мой «новый» знакомый. Выяснилось, что промытая вчерашним юбилеем и утренней беседой память действительно не подвела. В единственном сыгранном спектакле уже тогда царил на сцене будущий заслуженный артист России и директор театра, а в ту пору просто бойкий и явно талантливый студент-журналист Миша Корнев. И спустя сорок лет я вижу тот яркий образ закрученного водоворотом суетной жизни одинокого вампиловского героя и даже вспоминаю короткую беседу Михаила с Геннадием, за версту чуявшим талантливых людей. Тогда-то Гена и представил меня будущему маэстро. Но и юбилей, и утренний «чай», увы, как и давнее знакомство, быстро и безвозвратно отлетели в туманную даль, занавес праздника опустился, и вновь наплыла тоска, связанная с ожиданием даже звучащего зловеще и не по-русски гистологического анализа.
Всё когда-нибудь кончается, как говорил мудрец. Двадцать томительных дней ожидания кое-как проползли, и мы вдвоём с Геннадием поехали в больницу за приговором.
Мне повезло, но кажется, только в том, что не нужно было стоять в очередях или бегать по больнице с оформлением бесчисленных документов. В лор-отделении уже много лет работала стоматологом и хирургом когда-то девочка из параллельного класса, теперь очень чуткий и отзывчивый доктор Наталья. Называю её без отчества, поскольку друг для друга мы всегда одинаково молоды. Не хочу называть и больницу, так как с той поры пролетело немало лет, а история получилась неблаговидная. Тогда мы ещё не предполагали, что с Наташей станем почти роднёй. Правда, в тот напряжённый день было не до тесных знакомств. Но какая-то искра между Наташей и Геной, видимо, пролетела, и спустя несколько лет я как-то подвёз Гену к его недавно выделенной фирмой холостяцкой квартире, а из соседнего подъезда именно в тот момент выходила моя «одношкольница». Я познакомил их как бы по второму разу. Прошло несколько месяцев, и между ними вспыхнуло настоящее чувство. Наташа фактически стала его женой. Не один Новый год и другие праздники отныне мы отмечали в нашей тесной компании. Выпало Наталье быть рядом с Геной и мужественно делить все трудности последних месяцев и дней его жизни. На руках у неё и сына – монаха отца Иннокентия (Дениса в миру) – и отправился Гена в мир иной. Удивительно, но буквально за час до наступления второй главной даты человеческой жизни по какому-то внутреннему зову больного навестил батюшка отец Филипп, исповедал и причастил перед самой дальней дорогой. Не иначе как сам Господь помог душе Гены основательно подготовиться к предстоящим мытарствам…