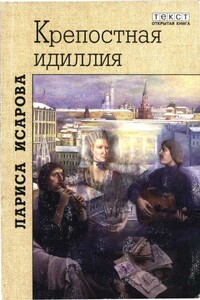Голубая акула | страница 24
Сидоров воззрился на меня с ужасом. Он-то обожал свою маму Елену Антоновну, высокую сухощавую женщину с породистым лицом и смеющимися серыми глазами. У Сидоровых вообще все любили друг друга — сестры, братья, родители. Эх, где ему понять?..
И я принялся, распаляясь с каждым словом, выкладывать ему нашу подноготную. Я описывал мелочные, яйца выеденного не стоящие, но оттого еще более оскорбительные придирки, красноречивые монологи, в которых мама — «Что делать, артистка, Сара Бернар», — ввернул я саркастически — без промаха жалит меня и отца в самые больные места. Говорил об отцовском малодушии («Подумай, как мне после этого его уважать?»), об испорченном нраве домашнего любимчика Бори, изводящего меня бесчисленными каверзами, чтобы, вынудив наконец долгожданный подзатыльник, с ревом кинуться за подмогой:
— Мамочка! Колька меня опять бьет!
Я показал в лицах, как мама, преобразясь из ангелочка в карающую Немезиду, вырастает в дверях. Как, не слушая объяснений, закатывает мне оплеуху (Алеша содрогнулся) и пронзительно вопит:
— Ах ты дрянь! Говоришь, он сам начал? Посмотри на него и на себя! Маленький, болезненный ребенок обижает такую орясину?! Лжец! Трус! Тебе не стыдно?
— Нет, — упрямо бубнил я.
Тогда, пылая гневом, она налетала на меня и еще несколько раз ударяла по щекам. Однажды в такое мгновенье мой взгляд встретился с глазами братца. В них я прочел наслаждение знатока, который млеет в ложе, любуясь искусством своего кумира. «Зритель подрастает», — подумал я с ненавистью.
Наконец я умолк. Лицо горело, словно ошпаренное. Алеша, нахохлившись, смотрел в сторону. Потом процедил сквозь зубы:
— Какой же я болван! Распинался о собственной драгоценной персоне, токовал, как тетерев, а в это время… Самоосклабление чистейшей воды! А ведь мог бы догадаться! Еще донимал тебя всякими глупыми шуточками! Если бы я только знал, что такая трагедия, разве бы я… — Сраженный раскаянием, он помотал головой и, повернувшись ко мне, закончил тоном, не терпящим возражений: — Ты имеешь все права меня презирать. Но теперь все пойдет иначе: это нельзя так оставлять, и я не потерплю… Мы придумаем… постой! Дай мне только день срока. Я посоветуюсь с родителями.
Я тут же догадался, что он надеется уговорить своих домашних, чтобы приняли меня к себе, как сына. Радикальное решение, вполне в сидоровском духе.
И я увидел… К зрелым годам это притупилось, но и ныне, когда о чем-нибудь думаю или слушаю какой-либо рассказ, мысленно я вижу все, о чем идет речь. Теперь эти живые картины выцвели. Если, что напрашивается в сем повествовании, использовать ту же аллегорию с аквариумом, можно сказать, что в аквариуме моего воображения давно не мыты стекла. В годы отрочества они были так прозрачны, что постоянно возникало искушение забыть о преграде между реальностью и фантазией.